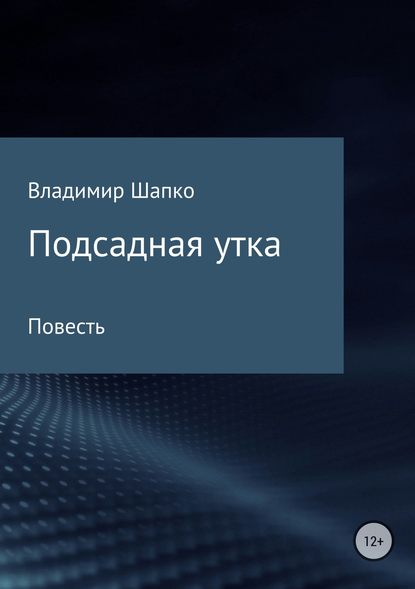По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подсадная утка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А-а, гадина! Заныкался-а! Струхну-ул! А-а!
И Пашка, не то рыдая, не то смеясь, мучительно спеша отринуть, вышибить с косы – из жизни своей выбить Гребнёва, – как автомат перезаряжал ружьё и бил, бил и бил по пустым кустам, не мог остановиться.
– В партию захотел, гад? – Н-на тебе пяртию! Чтоб начальником стать? – В-вот тебе начальник! Чтоб воровать ещё больше? – Н-на, воруй! Пироги твои поганые? – Н-на пироги! Н-на! Н-на-а!! – полыхали, гремели выстрелы. В красном дыму дёргался берег, кувыркались в воду пустые гильзы патронов…
Вдоль берега озера, по мелководью, раскачиваясь как пьяный, брёл к взошедшему солнцу паренёк. На нём горбилась телогрейка, кепки на голове не было. Резиновые, расправленные до паха сапоги везлись по воде вместе с висящим на руке ружьём.
Паренёк корчился, гнулся к воде, словно выворачиваясь, кашлял. Останавливался, кидал воды в лицо. Снова брёл.
Вдруг стал и схватился за голову. Ружьё плюхнулось в воду.
– Крякают! Юра! – раскачивался он, сдавливал голову. – Юра! Слышишь! Крякают, гады! Кря-якают!..
Всхлипывая, долго шарил по дну в ледяной воде ружьё. Снова брёл, таща за собой, как больную испарину, красные дымящие всплески солнца.