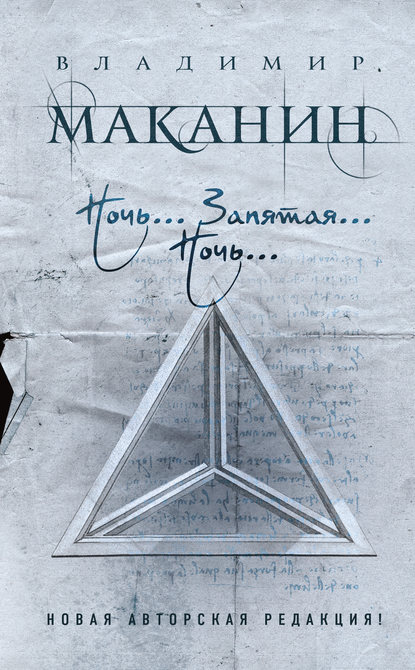По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь… Запятая… Ночь… (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал на спине – глядел в небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и… и оставался. «И что здесь такого особенного? Горы?..» – проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме – да и что интересного в самих горах? – думал он с досадой.
Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» – он словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки – горы?! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность – но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?
Отставший
Повесть
1
Сон мучит старика – моего отца (мама умерла, отец одинок, и, когда я приезжаю его проведать, он с подробностями рассказывает мне мучающий его сон. Если я не приезжаю, он звонит и рассказывает мне сон по телефону. То жалобно, то гневно).
Помочь ему в его снах я не могу – это ясно. Но ведь могу слушать.
Отец рассказывает, как он выбегает за ворота, натягивая на голову шапку, хотя сам он еще в нижней рубахе (и даже в брюки нижнюю рубаху не заправил), ремень еще не затянут, болтается туда-сюда на бегу. И, конечно, отец, едва только выбежал, уже знает, что улица пуста и что он отстал от своих. «Выбегая, я уже точно про все знал». – «Почувствовал?» Да, да, он наперед почувствовал, знал: грузовая машина (гремящая бортами полуторка тех лет) уже уехала. Он один…
Ему снится, что грузовая уже далеко и что люди там, в машине, в кузове, тоже полуодетые, однако успевшие вскочить, влезть, что-то кричат ему, машут руками, а машина все прибавляет и прибавляет, и по какой-то важной причине, по неумолимости какой-то, приостановиться хотя бы на миг, притормозить и подхватить отца грузовая никак не может, и эта беда, эта неумолимость отставания и составляют, кажется, главное чувство его повторяющегося сна.
Мучительно ли, больно ли ему? Вне сомнения. Но есть ли в придачу к боли хотя бы плавность сновидения, анестезия медлительного парения в воздухе и, стало быть, хоть какое-то, пусть мизерное, достоинство, раз уж ты отстал?.. Возможно, что нет. Совсем ничего нет, только страх. Опять и опять видит он свою картинку – грузовые машины одна за другой срываются с места, мчат, люди кричат, шоферы огрызаются и наддают и еще наддают, припав к рулю, колеса скрежещут; одна, другая, пятая, взревела уже и последняя машина, и вот только тут из избы, сонный, поскальзываясь на снегу, выбегает мой отец, выбегает в числе самых последних. «Братцы! – кричит он, обжигая горло морозным воздухом. – Братцы!..» Но машины уже какой взяли разбег; он видит последнюю и потому в незаправленной рубахе, с шапкой, сбившейся на ухо, бежит ей вслед. Он, конечно, не догонит. Он просто уже не может, не в состоянии догнать. По крайней мере, он уже понимает, что отстал; сонный, полураздетый, он понимает это все больше и больше. Но бежит, все подтыкивая рукой свою нижнюю белую рубаху, по сути, в белье, подтыкивает и бежит – не надеясь и все же надеясь. Но вот он отстал. Серое, бессолнечное морозное утро. Машина далеко. Он один посреди дороги.
Жаловался, что сон мучителен именно однообразием, а ведь ни в коей мере не заслужил он такого сна в качестве наказания. «Я много и честно работал, честно воевал! не заслужил!» – кричит отец, задыхаясь уже и среди дня. Он жаловался, вновь хотел врачей. Ведь не просто скверное сновидение, ведь среди ночи он мучается, мучается всерьез, вдруг вскакивая с постели и ловя ртом воздух. Про сердцебиение и не говорю – какая боль, какой сжимающий страх! как оно, бедное, стучит в ребра!
(В Подмосковье отсутствие телефона – обычность. Чтобы мне позвонить, отец выходит из дома и идет шагов двести до почтового отделения, где стоит покосившаяся будка – телефон-автомат.
Он звонил в два часа ночи. Я еле его успокоил.)
Я бреюсь, посматривая в зеркало на свою полуседую щетину: когда я небрит, щетина меня старит. Звонит телефон, я знаю, что это отец, и не спешу, так как он звонит теперь каждый день. Трель звонка становится уже нервной, я откладываю бритву в сторону, отхожу от зеркала – но звонит не мой постаревший отец, звонит моя дочь: «Папа!.. Папа, да что ты не берешь трубку? Ты что – не слышишь, я вся изнервничалась!..» – оказывается, я нужен. Оказывается, ее школьный приятель, парнишка Витя, попал в бытовую неприятность (что-то там с получением паспорта), дело обострилось взаимно-грубым разговором в отделении милиции, так что необходимо теперь его, молодого и горячего Витю, как-то выручать – паспорт – это паспорт.
– Папа, я жду – я вся на нерве! – В ее голосе слезы.
Я вновь бреюсь; при том что впускаю в себя появившуюся небольшую, а все же заботу. Звонок отца (из поколения до меня) и звонок дочери (из поколения после), накатываясь, встречными волнами они гасят друг друга. Но на какую-то секунду обе трели звучат в моих ушах одновременно, совпав и замкнувшись на моем «я», словно бы даты превыше заключенной меж ними жизни и потому затмевают, и словно бы «я» и есть простенькое замыкание двух взаимовстречных сигналов прошлого и будущего.
Представил себе, как он (встав с постели) идет звонить мне среди ночи, и раздражение мое сразу схлынуло. Телефон-автомат в двухстах шагах от дома – недалеко; но ведь надо одеться, надо соразмериться с погодой, надо решать, выпить ли чаю и после идти звонить или идти сразу, впопыхах, пока сон горяч и бьет, колотит в сердце, а сердце ухает, скачет, никак не попадает в норму, – после чаю, кто знает, идти расхочется и двести шагов уже покажутся долгими. Да, да, если идти сразу, то не надо преодолевать смущение и неловкость ночного звонка – впопыхах все можно.
Он берет спички, надо их не забыть. Номер он помнит, но ведь надо видеть, крутить диск, когда в телефонной будке темно. Немножко со спичками, немножко на ощупь, так он и набирает мой номер.
Старый уже, согнутый, вот он стоит в телефонной будке пригорода (в будке нечисто и запахи) – вот вспыхнула там и быстро прогорела спичка. Вокруг ночь. Человек стоит и, бросив пятнадцать копеек, тихо, внимательно крутит диск. Этот старый человек – мой отец.
Кто был Леша-маленький?.. Это был мальчик, сначала мальчик, а затем подросток и юноша, который таскался за артелью золотоискателей и жил их милостью.
Время – давнее. Артельщики ходили помногу – горы, долины, опять горы. У Леши скорые ноги и сердце крепкое, но он все отставал и отставал, он был вял и мал годами, и в глазах его временами становилась необычная голубизна, детский голубой туман, про который говорили – тихая дурь. Парнишка как парнишка, но вдруг такое в глазах. Как пелена. Федяич, старший в артели, только отмахивался, когда обнаруживалось, что Леша-маленький опять где-то потерялся. Пропадет, мол, и ладно, не очень пожалеем!..
Оставшийся в одиночестве, Леша-маленький непременно спохватывался где-нибудь в долине. Он тут же бежал за артелью, спешил, кричал:
– Эй!.. Эй-эээй!
И ему отвечали криком, если были недалеко.
Но чаще Леша спохватывался, когда отставал уже намного. Он тогда шел один. И ночевал один. Стемнело – он отыщет глазами, увидит вдалеке костер заночевавшей артели и в направлении того огонька шагает всю ночь. Но чаще он увидит с горы костер Федяича и его сотоварищей уже так далеко, что вдруг захнычет, ведь маленький! и какие ж стали люди – совсем не такие! – всхлипывая, он разведет свой костерок, чтобы не зябнуть, сидит. Немного подремлет у огня, а с первым ранним холодком надо идти.
К полудню, когда артельщики уже вовсю работают, он только-только появится. Сядет около них, смотрит. Если же, обессилевший, станет работать, валится с ног.
Артельщики – ребята крепкие, мужики, а ему было лет двенадцать-тринадцать. Артельщики не жили на одном месте, они шли и шли, оставляя там и тут на своем пути шалаши, избушки, землянки.
Случалось, что находили сколько-то золота (обычно мало, но находили), и вот, когда уже добирались в земле до пустоты, Егор Федяич взвешивал желтый песочек, завязывал в кисет и после скорого обеда говорил – собирайся, мужики! в путь!.. И кто-нибудь посылался вперед и отыскивал старую дорогу. Они шли туда следом и ждали мужика на телеге или обозе. Сидели у дороги в траве. Федяич курил. И так неспешно уплывали от них облака. И только тут Леша-маленький их отыскивал, нагонял.
– Смотри-ка, не потерялся! – смеялся Федяич.
А помощник Федяича, молодой и спорый мужик Шишов, весь запачканный желтой старательской глиной, вроде бы укорял:
– Что ж ты, Леша, по пути не сговорил для нас подводу-две – вот бы ко времени получилось!
Лера – так ее звали, девушку, которую я любил, когда был студентом.
Как-то артельщики велели Леше постеречь (побыть возле) необыкновенную глыбу малахита. Они хотели захватить камень на обратном пути и, разбив на куски поменьше, отвезти в поселок мастерам: заработать деньги.
Но когда возвратились от ручья, найти глыбу они никак не могли. Они орали Леше, кричали, свистели в два пальца – все без толку. Потратив впустую много времени, пошли наконец растянутой цепочкой, и один из них, самый в цепи крайний, каким-то образом набрел, наткнулся. Леша спал. В глыбе была большая изогнутая трещина, на дно трещины Леша мало-помалу сполз (видимо, от жары) и уснул. На крики и злую ругань он, конечно, ничего в оправдание сказать не мог. А артельщики уже вовсю наработались, устали, хотели есть.
Федяич так рассвирепел, что не велел его кормить: он и прежде не терпел тех, кто спит днем. К тому же он охрип, кликая Лешу (боясь потерять такую большую глыбку, да еще с одной-единой выигрышной трещиной, которая облегчала камню осмотр и вид изнутри, облегчала подход к рисунку: к естественной игре зеленых прожилок). Охрипший и злой, он не велел Лешу-маленького кормить, а после обеда прогнал совсем. Но Федяича упросили. Какой-то убогий попался им в тот день на пути: заросший, с седыми космами, с огромным нательным крестом, убогий человек посидел с ними на привале, от каши и кипятка отказался, съел сухой кусок хлеба и ушел. Но сначала просил за Лешу.
Федяич прогонял Лешу-маленького несколько раз.
Есть своеобразный соблазн: совмещать времена. Я, видно, искал в ту минуту утешающие слова. И не находил. И вот сказал по телефону моему постаревшему отцу, мучимому снами отставания: «А ты не помнишь старую уральскую историю о Леше-маленьком? о золотоискателе? не помнишь?»
Вероятно, вопрос потребовал от отца слишком больших усилий памяти, отец не восхитился и не воскликнул, но наш привычный разговор все же сбился, а отец весь напрягся – какая тут связь меж отстававшим подростком (да, да, была какая-то история!) и его снами, в которых он так мучительно отстает от грузовой машины?.. Но никакой связи не было. Время лишь на миг сместилось, но ведь не совпало. И отец, справедливо недоумевая, спросил: «А что, собственно, мне там помнить?» – он даже переспросил меня, словно бы уточняя.
Но я тоже не знал – что там помнить, мало ли кто и когда отставал. Я неловко засмеялся в трубку.
– Да я просто так сказал, почему-то вспомнил.
Но отец уже заволновался – что за история? Какая тут связь?
– Да никакой связи нет. Никакой – просто вспомнил! Когда-то я хотел написать про это повесть. Когда студентом был.
– Повесть?..
Он наконец поверил, что мои слова и правда случайность, залетевшее в наш разговор случайное воспоминание, и посетовал: мол, стали мы часто отвлекаться от разговора в сторону, а зачем?.. Но странным образом это минутное переключение в прошлое его вдруг успокоило. Отец вздохнул и тихо сказал:
– Спать пойду. Спать хочется.
2
Шишов был спор, молод, толков, умел понять и умел скоро распорядиться – такого помощника, конечно, переманивали и завидовали Федяичу, подстерегали. Как-то раз здоровенные волгари несколько дней упорно шли по следу артели (их было четверо; говорили, что их наняли завистники за хорошие деньги) – в отсутствие болевшего в ту пору Федяича они напали на артельщиков, стреляли. Полусонные артельщики попрятались в кустах, а волгари таскали за волосы тех, кто не убежал далеко: Лешку-маленького и одного нового подручного. В довершение они перебили обоим руки, угрожая тем самым помощнику Шишову и как бы намекая, чтобы не работал он так споро и хорошо. Мол, и тебе перебьем. В маленькое дельце они так много вместили своего волжского опыта. И ушли, посвистев разбежавшимся по кустам артельщикам, поулюлюкав, расколов один их промывочный ковш и забрав харчи.
Сойдясь вновь, артельщики бранились, винили друг друга и за спором не сразу сообразили наложить лубки – сделали подручному, который к вечеру стал громко стонать, а Леше-маленькому только на третий день наложил лубки Федяич, больной, у себя дома, когда артель возвратилась в поселок, когда к нему пришли и, рассказывая, сели вкруг ужинать. Руки у Леши срослись кривовато, криво. Таким он и остался.
И тогда Федяич снова прогнал Лешу-маленького, потому что с кривыми руками тот ничего почти работать и помогать не мог.
Какое-то время Леша-маленький слонялся возле поселковой церкви, мел там и выносил мусор, прибирал, молился, потом полгода он таскался с лошадниками, потом вернулся и опять пристал к артели Федяича, а потом оказалось, что Бог дал ему необыкновенный дар – умение находить золото.