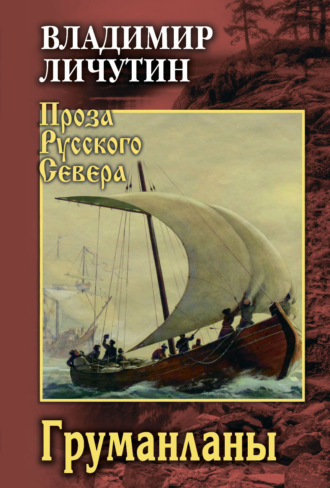
Груманланы
Все дороги идут через Большую слободу, через мирскую избу, где выправляют походники бумагу на отлучку из дома, а там уже подхватят надежные слухи, что где творится, такой-то богатина сбивает покрут на Матку, на Грумант, на Канин за зверем, на Мурман по треску. Вроде бы мезенская слобода – место узкое, тихое, всех-то мещан и с тысячу едва наберется в самый людный год, и каждый поселянин вроде бы возле своей печи суетится, перебирая в памяти недолгие годы свои перед тем, как предстать пред Спасителем… Но это лишь на первый посторонний взгляд. А коли хватишься летом по нужде найти мужика в помощь, и с фонарем не сыщешь по всей волости – так внезапно обезмужичится родной край, только древние старики, из которых уже песок сыплется, самим требуется крепкая рука в помощь добрести до обеденного стола. Все поморы бьются в поисках хлеба насущного, живой копейки для семьи.
«Эх, – с грустью вздохнет невестка, глядя на исгорбленного свекра, – был конь, да езжан, диво на диво…» – одни бабы да девки-хваленки остались во всей округе, заменяя на карбасах и в извозе домашних мужиков: некому и арестанта в уезд до тюрьмы отвести… Случись что, так и гроба на погост некому отнесть. Хоть на Пезе, на Кулое, по Мезени реке и Няфте, по Мегре и Неси не сыскать толкового мужичонки, опустел уезд, ибо все крестьяне в отходе, на промыслах, в долгой отлучке в океане. Вздымись на небо и глянь с верхотуры на морские лукоморья и увидишь, как по губам, заливам, в устьях рек и становищах островов Груманта, Колгуева, Матки, Вайгача, Шараповых Кошек, в устье Оби, Печоры, Мезени, Двины, Онеги, Колы, Печенги, под Соловками стоят в заветерье многие сотни кочей, морских карбасов, лодий, шняк и лодок, у разволочных избушек колготятся люди, и всяк ведет вековечные промышленные заботы, и нет, кажется, конца-края им.
И не только бывалого кормщика рвут с руками, но и деятельный, хваткий, молодой, сильный, рукастый парень идет в артель по большой цене, и его тоже старается залучить богатыня на свое судно подкормщиком, иль весельщиком, где требуется воловья сила, – и хозяин даст прибавки к паю из своего кармана. Вот почему сбиваются в покрут загодя, и мещанин-торговец смекает, как полнее, без урону подготовить артель из разных деревень. Купец вкладывает денежки – и большие сотни, ведь идут морем не в соседнюю речушку, где можно при случае и проследить, а на дальний Грумант-архипелаг из тысячи островов с дурною славою дикого мрачного места, прибрежные воды которого усажены костями погибших поморов, а скалистые берега западного Шпицбергена уставлены православными крестами со сказочных времен, бывает, и с той поры, когда еще при Спасителе апостол Андрей Первозванный поднялся по Днепру крестить Русь мимо Киева – крохотного острожка, на Полоцк – уже известный город, на Словенск и Валаам, где поставил большой каменный крест и подвел под Христа русских волхвов, а оттуда подался в запад, и уже в конце пути апостол Андрей Первозванный, брат апостола Петра, был казнен нечестивцами. Об этом не однажды вспоминал великий царь и первый император Иоанн Васильевич Грозный, что крестил Русь Андрей Первозванный в одно время с греками, когда Спаситель только что уходил царевать в небеса…
Сбор артели заканчивается загодя, а когда мужики уже согласились на промысел и отступать поздно, забраны в долг деньги, тогда кормщик идет к хозяину-купцу, который вкладывает большие капиталы в затеянное предприятие, или богатыня сам стучится в дверь к знаменитому корщику за помощью. Они обговаривают до мелочей будущее предприятие, чтобы не промахнуться, остаться в выгоде. На коче идти или лодье, да добрая ли посудина, может, требует большой починки, ладен ли такелаж, каковы паруса, ровдужные иль холстяные, а может, сильно обремкались, дыра на дыре. Можно бы об этом, кажись, и не спрашивать, ибо живут в соседях, и все тайное давно стало явным. Но обсудить надо, чтобы все было по старинке, как водится по уставу. Поговорят, примут по стопочке под муксуна, иль под малосольную нельму, иль прикажут хозяйке кислой камбалки подать помакать для душевного спокоя и телесного здоровья. Суровы нравы в поморском согласии и нет в нем мелочей, и еще не раз встретится хозяин уже в избе кормщика, и литки (рукобитье) отметят, – «не вем, приведет ли судьба еще встретиться». Один при беде теряет капиталы, другой – жизнь свою и всей артели… об этом вслух не вспоминают, но каждый держит в уме, и оттого сговор с кормщиком содержит тайные нравственные смыслы и родственные чувства, о которых суеверно, озорко проговаривать вслух: как бы не накликать беды…
Сойдутся на том, что по вешней поре, как растеплится на дворе и пройдет ледоход, осмолят посудинку, да и осмотрят всю насквозь, не проела ли мыша, да, поди, гнильца завелась бесперечь, да нет ли течи, рвани в канатных бухтах, как бы не потерять якоря… исправна ли печь в казенке, да каковы три морских карбаса, с которых придется бить в море моржа и ставить сети на белуху, не погнили ли – ведь у каждой вещи свой срок; да справен ли бой у пищалей и мушкетов, в запасе ли сухой порох и пули, зашиты ли сетки по рыбу и нет ли дырья в неводе на белуху: зверь крепкий, отчаянный, один уйдет на волю, а следом и вся ватага: потом ищи-свищи. Все, каждую мелочь надо высмотреть, что починки просит. Ибо в море – не у тещи в гостях: как налетит разбойный ветер-полуночник, поздно будет хвататься за соломину, звать татку с маткой, вопить в небеса, коли приключится оказия: «Осподи, буди мне, грешному, не оставь окаяннного…» Конечно, жмется тароватый купчина-старичина, выторговывая себе прибытку, ведь в этом мире даром ничего не бывает, и самому совестному боголюбивому хозяину надо ломать голову, не спать по ночам, отовсюду приманивая в свою зепь по грошику, коли и сам-то начинал жизнь с покрута. Но все-таки божьего суда боится мезенский купчина, стремится к добродетелям, чтобы помянули при случае добрым словом: вот и храм поднимет середка города, и вклад положит, церковные классы откроет, взяв на свой кошт школу, и хлебенную лавку заполнит товаром, чтобы не оголодал православный народишко, и не вымер в скудные злые годы, как то случилось в XVII веке, и ополовинилась тогда мезенская деревня: многие избы вымерли вчистую, и некому стало предать земле, оплакать, справить поминки и отпеть со старухами-вопухами в молитвенном доме поморского согласия и на могилке. Молодые парни, казакуя меж деревенских окон и не сыскав работы, побежали в Тобольск и, поверставшись на государеву службу, съехали на устье Оби, на Енисей и Лену. Иные подались с семьями и малыми детьми туда, где текут молочные реки, а соболей девки бьют коромыслами, когда идут на родник по воду. Их ловят на таможнях, в сибирских острогах, велят под страхом сурового наказания поворачивать оглобли назад, но беглецы упрямо идут на восток, обживать новые земли. А куда возвращаться христовеньким, ибо жилье без призору погнило, рухнуло, земли заросли чищерою, и ни копейки за душою. Вопят мезенцы, шлют в Москву слезницы: «Царь-государь, дайте нам время обжиться на новом месте, не судите строго, не ворачивайте назад к пустому месту».
Обнищились многие торговцы, и еще круче и тоскливее стало жить поморщине, ибо неоткуда ждать живую копейку, чтобы заплатить подати, а царская власть обложила народ налогою вдвое и втрое. Это было немилостивою местью Москвы поморцам за долгие годы раскола, за восстание на Соловках, за неиссекновенное чувство воли, совести и сострадания, – те самые божьи ручейки, которые стремительно иссыхали в столичных городах. вон откуда, от Алексея Михайловича и от его хворого сына, царя Петра-антихриста I, пошло гонение не просто на староверческий толк, а на весь боголюбивый поморский край, откуда власть черпала ковшом в свои кладовые золотую и серебряную гобину. Мезень и Пинега строили государство, крепили его из последних сил, рвали жилы, а им в благодарность шелопы, кнуты и костры…
Купчины, чтобы вовсе не разориться, не пойти по миру, тоже спохватились и потянулись следом за молодыми казаками на восток, и мезенские вдовьи семьи остались вовсе без призору, но перемоглась, пережила северная деревня голодный XVII век, выправилась, поднакопила жирку.
Вот и купцы – царевы целовальники, распрощавшись со службою, воротились назад в родную Мезень с нажитком, чтобы верстать отряды морских охотников…
Суровы нравы в поморском согласии, чтут староверы Христа Иисуса и сына его протопопа Аввакума. Есть в этой русской натуре племени «груманланов» какая-то особая неизъяснимая сила, что мужики ни огня, ни каленой стрелы, ни черта, ни цинготной старухи не боятся, забираясь в поместье Сатаны. И только Господа и Николу Поморского опасаются прогневить.
5
И вот хозяин делает запасы на промысел, заказывает на сторону, проглядывает в своих амбарах и житнице, на леднике и в погребицах. Какого-то харчу, конечно, артель на Груманте добавит: забьет диких оленей на свежее мясо, насобирает птичьих яиц из гнезд на скалистых кручах. Но это приварок, добавка к запасам; главное – что возьмешь на промысел с собою, чтобы спастись от скорбута, а заведенный порядок такой в поморской артели: идешь в море на неделю – бери харча на месяц; уходишь на полгода – запасай еды на год, и т. д.
Из харчей: берут с собою на Грумант большой запас муки для хлебов ржаной и ячневой, разные крупы для каш, много сухарей, ибо без хлеба русский стол не стоит, ибо хлеб всему голова; если нет у мужиков папушника или житнего колоба, ржаного каравая, лепешки прямо с огня, блинов или кулебяки с трескою и палтосиной, то ощущение у поморянина, что вроде и есть-то нечего, голод прижал, хотя от мяса и рыбы ломится стол: если кончается в становье хлеб и сухари, и последнюю муку подмели в ларе – то вялят и сушат оленье мясо ломтями и с ним едят рыбу и ушное, как с хлебом.
Не забывают на зимовку мед сырой, масло постное и коровье соленое в пестерях (берестяной посуде-ведрах и палагушках), соленой трески и палтосины: для северянина треска и палтосина – лучшая еда, хоть сырая, хоть вареная и жареная; кто устоит противу нее? Эта рыба не приедается, от нее черева не тоскнут, будь она хоть и с сильным запашком, печорского посола; незнакомого человека от невыносимого кислого духа выметает вон из избы, и после он долго не может приобыкнуть к этой естве, но когда притерпится, то уже от стола не оторвать: перед трескою печорского посола даже семга в падчерицах; берут на промысел мясо скотское соленое, баранину, молоко топленое в кадках (каднее), несколько бочек ставки (кислого молока с творогом), несколько ушатов морошки моченой с учетом, чтобы хватило до следующей осени, шишки сосновые, чеснок, лук, ушат квашеных грибов, туеса брусники и клюквы для питья, рогозницы с солью.
А еще постели, малицы, мавличные рубахи, совики, рубахи и порты на пересменку, белье исподнее, чтобы сменить после бани и грязью не зарасти от зверской такой работы. Человека, равнодушного к себе и своему здоровью, скоро прихватят девка-знобея и мрачная хозяйка Груманта – цинготная старуха, смахивающая на Бабу-ягу, переселившуюся на архипелаг из русских сказок. И никак не отбиться от сатанинских служанок. А еще понадобится добрая обувка, пропитанная ворванью, да чтобы без протечки, бахилы до рассох, коты, уледи, ичиги, валенки пришивные голяшки, штаны ватные, холсты, онучи, поддевки из оленя, рубахи вязаные из веретенки, басовики (катанки без голяшок) в чем в зимовье ходить. Шапка овчиная, башлык, малахай, рукавицы-вачеги, верхонки, рукавицы вязаные, носки шерстяные долгие из хозяйкиных рук и короткие носки на пересменку две пары; а еще пищаль, огневой припас (порох и пули, кутило, спица на моржа, лук-саадак со стрелами, бочки для вытопки сала, капканы, ловушки на песца, туеса и пестери, точильце, ножи, трутоношу, компас-матку, чтобы не заблудиться на Груманте в снежной пустыне. Пожалуй, и десятую часть не перечислил из того, что понадобится лишь одному покрученнику. А их на коче будет пятнадцать мезенцев, и как бы чего не упустить, не утратить в первые часы отъезда, спохватиться, пока возле дома, и взять. Иначе после ищи-свищи, кусай локти…
Кто-то верстается в артель из своих запасов, кого-то собирает хозяин-богатеня и после вычитает деньги из заработка покрутчика, нанятого на промысел. Если удачно сплавали, набили зверя, то какая-то доля из одной трети пая достается нанятому работнику за вычетом долгов, которые успела набрать семья добытчика в его отсутствие дома. Но даже при удачном промысле заработок охотника столь незавиден, что, возвратившись в деревню, мужик снова вынужден наниматься, невольно попадая во власть удачливому оборотистому земляку. Увы, такова судьба нашего семейного мореходца, не шибко смекалистого, любящего завивать горе веревочкой, искать счастие в кабаке, смиряясь с уготованной судьбою. Можно, конечно, или кинув семью, бежать в просторы России, на прельстительный восток, и поверстаться в казаки, в царевы слуги на жалование, или заняться в Сибири соболем, куда уже скинулись казаковать многие молодые слободские мужики, или бурлачить по сибирским рекам. Один хомут сбросили с шеи и тут же натянули другой, еще более гибельный. Бывает, что кому-то выпадает повезенка, сшибают фарт в неведомых землях, но чаще всего пропадают безвестно, в таежных распадках не вем где. Вот повезло же братьям Коткиным, думает иной, натягивая на шею новый хомут, а я чем хуже? Может, обличьем-то и краше, девки-хваленки с ума сходят, но есть, есть еще кровь предков, таланты и судьба, которую на кривой кобыле не объедешь. Да, Коткины, как и Семейко Дежнёв, холостой парень с Пинеги, поверстались в казаки, выслужились в целовальники, тяжкими трудами скопили гобины, набили кошулю серебром, а сейчас судачат на Мезени, ездят по столице в карете и пьют не какую-то водчонку, а только херес, виски и ром… да нет, врут, поди, мещана от зависти, лба не перекрестя на храм. Ведь кто нажил капиталы своим горбом, скитаясь по Сибирям, тот не станет напрасно сорить деньгами, иначе заведется в доме моль и скоро житье захиреет, а дети пойдут по миру.
«Не стоит пока загадывать», – рассуждает деревенский «рохля», приопомнясь, стаскивая походную поклажу на берег Инькова ручья, что делит Окладникову слободу на полы; там уже дожидался купеческий коч, готовый к отправке: пусть и не с новья посудинка, но сидит в кроткой полуводе красиво, задравши нос, и тес у казенки выглядит новым, отглажен рубанком вчистую, слюдяная «шибка» у окна промыта, отражает ослепительное межонное солнце, нашвы пробиты конопаткою, а пазья и вересовое вичье залиты кипящей смолою. На палубе по борту и на растрах принатойвлены пять морских карбасов, ловко вложены друг в друга, там же греби, шесты пехальные, плицы для вычерпывания воды, по другому борту и на палубе мачты, холщовые паруса, якорь с лебедкой, ваги, чтобы важить, вздымать из воды на торос коч, – пятнадцати дюжим поморам эта работа станет под силу, бухты разных конопляных веревок, всякий такелаж, и, конечно, не забыты дрова, много дров, ведь на Груманте нет ни леса, ни другого хлама, кроме разбитых кораблей, – печальные свидетельства драм и трагедий, еще случайно не истопленные в печурах становий, коих множество по западному берегу Груманта… плавник обходит его стороною, течениями прижимаясь к матерой земле.
…Плавник выносит из устьев Онеги, Двины, Кулоя, Мезени и Печоры, и он минует Грумант, не оседает на скалистых угрюмых стенах Больших Бурунов, но почти весь остается на берегах Белого моря и Матки… Там вырастают горы бревен, свежего и старинного леса, порубок из лесосек и разбитых штормами сплавных плотов, всякой гнили, хлама и деловых свежих, не ободранных волною бревен, годных даже на избу и баньку… через эти завалы порою трудно пробраться. Бревна, до лоска отглаженные штормами, ветрами и дождями, похожи на останки древних мамонтов, которые порою находят в северной земле. А вот Грумант беден топливом, и дрова приходится брать с собою, сети и невода, промысловый снаряд: ушаты с топленым молоком и ставкой, туеса с ягодой, грибами, с морошкою груделой, еще недошлой, в пути до Груманта дозреет, мешки с крупами и мукою и прочим продуктом спущены с палубы вниз на поддоны, чтобы не замокли, туда же медные котлы и деревянные кадки с маслом коровьим, бутыли с маслом постным, оружие и огневой припас убраны так, чтобы были всегда под рукою и в случае разбойного ветра можно скоро выметать на лед, пока стамухи не всползли на палубу и не утащили суденко на дно вместе с командою: и, чтобы не утратить харча, многое убрано в казенку под присмотр кормщика, а бочки для моржового и белушьего сала спущены в трюм, там же и груз речных и морских голышей для осадки судна; на становище его выгрузят на берег.
Возле сходней крутился нанятый хозяином «зуек» – рослый мальчишка, мечтающий попасть в рейс; он уже дважды с отцом ходил на Мурман по треску, был в артели наживщиком, мечтал подрядиться на Грумант с дедом и сам думал по себя, что все знает, всему учен. Попадали до Мурмана пеши пятьсот верст, супротивный ветер побережник бил в зубы, хиус сек лицо, продувал насквозь, тащил с грузом чунку (кережку), дважды попадали в февральскую метель, три дня отсиживались под снегом, опрокинув кережку и нагребши поверх чунок снега. «Не заколел, сынок, только не спи», – остерегал отец, пригребая прыщеватого, но жилистого мальчонку себе под грудь. «Сопрел, однако», – хвалился «зуек», сдувал с носа пот, ползущий к верхней губе, слизывал вместе со снежной накипью, хватал ратовище шеста и давай дрочить, пробивать в снежном наплыве продух…
«Будет день, будет и пища… телят по осени считают… а там уж как Бог подаст, стоит ли идти с поклоном к богатине, чтобы тот снова принял в покрут и за счет будущего заработка помог семье рублем, или взял бы бабу в казачихи на сеностав, или обряжаться по хозяйству…» – размышлял покрутчик, взглядывая на зуйка, а видел перед собою своего старшего сына, который оставался в Большой Жерди в помощь матери.
…И кормщику тоже надо крутиться, полагаясь на свои таланты, знание пути-дороги, морей, берегов и островов Ледовитого океана, становища на тех землях и залежки моржей и тюленей, ежегодно приплывающих к тем берегам, в какие сроки и как долго плодятся звериные юрова, где гнездится птица прилетная и жировая, и как ловчее брать ее без ружья и солить в бочках на торговлю и в запас, знать каждую коргу и тайные отмели, сувои и сулои, подводные течения и коварные места, как выжить в диком месте, если настигнет беда и вернуться в родные домы к семье, да чтобы повадили спутние ветра, а не бил бы в зубы супротивный «побережник и шалоник…» А в каждом берегу Белого моря свои родные ветры, на которые можно опереться, и враждебные, погибельные, что утащат в голомень, не спросясь, то ли летник, или полуночник, или всток, и вся тогда надея на Иисуса Христа и его святителя Николу Поморского. «И хорошо бы по возвращении в слободу получить от хозяина, – думает кормщик, – свершонок в пятьдесят рублей серебром поверх своего пая да постоять перед ним за честь покрутчиков, чтобы хозяин не изобидел бедных мезенцев и всегда помнил Бога…»
И купцу, вложившему свой капитал в промысел, тоже надо бы почаще вспоминать, с какими трудами и сам выбивался из бедности, из лиха да в нужду, и знать по совести и смирению, что «бог дает богатым денег нищих ради», чтобы разбогатев, пусть и неусыпными трудами, владелец судов и капиталов с милосердием вглядывался в заветренное, рано изморщиненное лицо трудовика своего и был бы всегда готов протянуть спасительную милостыньку… молился истово, ложась на ночевую? Как-то там, на Груманте, его артель? Живы-нет, и все ли у них ладом? Из Дорогой Горы и Лампожни, из Большой Жерди и Азаполья, из Целегоры и Карьеполья, из Койды и Семжы, из Большой Слободы и Малой набрал кормщик покрутчиков, и лица молодых, в самой разовой поре, мужиков прояснивали перед глазами из ранней осенней тьмы. Да и как не молиться, если два года тому срядил коч и двадцать покрутчиков, а о них ни слуху ни духу, хоть бы с проходящих судов кто весть привез…
Нет, мезенский купец-староверец никак не походил на алчного жестокого мироеда, созданного воображением русских «пахоруких» литераторов, ничего не поднимавших в жизни тяже тростки (гусиного пера) с чернилами и дести бумаги.
Вот о них-то, пропавших в океане, и о тех, кто собирается на путину, и молит хозяин, сулит им удачи, ворочаясь в горнице на жесткой оленей постели, чтобы им, мезенским охотникам-зверобоям, выпала удача в море, чтобы не угодили в разбойный ветер, не потеряли хозяйское судно, следили за ним, как за своим, ибо в коче их судьба и спасение, чтобы обильным наискалось моржовое лежбище да чтобы хватило харча до конца промысла, чтобы не задушила артель злобная Старуха-Цинга, тогда век не избыть перед осиротевшими семьями своей вины…
Бабы с дитешонками съездили на карбасе по Пые-реке на дальние болотистые ворги, куда мало кто бродит, и набрали туесье и ушаты зрелой морошки, истекающей соком; натомили в руссской печи молока на пятнадцать мужиков, наквасили несколько бочек молока с творогом, настояли спасительную от цинги «ставку», напекли хлебины, насушили сухарей, ведь жизнь их благоверных, а значит и судьба семьи, зависит от того, с каким усердием, безунывно потрудятся их жены.
…Вот и все вроде бы готово к походу, а что позабыто, то вспомнится опосля, когда станет прижимать взводенек и окатывать крохотное суденко студеной океанской волною, соленую водяную пыль, сорванную ветром с белого гребня, высевать в каждую расщелинку и пазушку судна…
И старый мезенский сказитель Проня из Нижи тоже в застолье: и хозяин промысла, верный дедовским обычаям, еще не забывший зимовки на Груманте и Матке, самолично ездил на оленях на Канин в деревню Нижу, что в двадцати верстах от устья Кулоя, где жил известный в поморье баюнок, былинщик, исполнитель старинных распевов, сказыватель всяких чудесных древних приключений Проня Шуваев из Нижи с молодой женою Фёклой Юрьевой из деревни Ручьи: у Прокопия Шуваева, когда сказитель еще жил в Большой слободе и не думал съезжать на Кулой, мезенцы учились выпевать старины: сказитель помогал на промыслах убивать долгую темную зимнюю ночь длиною в четыре месяца, когда солнце, запавшее в запад в октябре, никак не желает до Сретения вылезать на белый свет.
Изба Прокопия Шуваева в Ниже всегда полна проезжего и прохожего народу, дорога проходила под окнами его избы; ведь мезенцы весной, осенью и зимою все время проводили в путях. Кулояне и слобожане, «мезяне и пезяне» отправлялись с зимнего берега на тюлений вешний промысел бить зверя, попадали на остров Моржовец и западную сторону Канина. В иную пору сбивалось на вёшный путь до тысячи зверобоев, и в долгие зимние вечера, чтобы прокоротать время, поморы из ближних зимовий частенько сходились в избе Прокопия Шуваева и слушали его старины и былины. Чаще Проня пел былины вдвоем с братом Николаем, но мезенскую песню «со вчерашнего похмелья», или «когда цвет розы расцветает», или про «Ваську-пьяницу» затягивали человек десять. Молодые поморы подтягивали пожилым спевщикам, запоминали слова, музыку и позднее на Новой Земле и Груманте исполняли запомнившиеся сказания, легенды, были и сказки…
Собиратель фольклора А. Григорьев писал: «Благодаря пению старин во время путей, когда собирается много мужчин, у знатоков сказаний оказывается много учеников».
Распевы Прони Шуваева далеко разошлись от Канина Носа по всем беломорским берегам, на Онегу и Пинегу, тут невольно как бы сама собою создалась необыкновенная, единственная на Руси школа исполнителей русской старины, и многие ученики ее вошли навсегда в народную культуру, стали незабытны. И «записыватели с трубою» полтора века наезжали из Питера на Канин в деревню Нижу, чтобы снова убедиться, что редкостный богатый источник не заилился, не обмелился совсем, хотя к этому идет и видится уже дно…
Из школы Прокопия Шуваева, кроме его родичей, вышли Мардарий из Кузьмина Городка, Касьянов из Заонежья, Аграфена и Марфа Крюковы из Зимней Золотицы, П. Кузьмин с Печоры, пудожане: А. Пашкова и Н. Кигачев, М.Д. Кривополенова из Пинеги, П. Нечаев из Сояны…
И залучил его наш купец-молодец, насулив хорошего жалованья, завлек на промысел на Грумант, и вот, распустив на груди широкую, лопатой, сквозную бороду, сияя желтой плешкой, кулойский баюнок уже завладел отвальным столом, даже не отпив и глотка хереса из круговой братины, а рядом, прислонившись к боку мужа, с какой-то древнерусской душевной теплотою во взоре сидела молодая жена Фёкла, во все отвальное не проронив ни слова, но в голубенькие просторные глаза то и дело набегала влага и, не скатившись из слезницы к верхней пухлой губе, сразу просыхала в обочьях. Проня уходил в море и не вем, вернется ли домой, а Фёкле так хотелось быть вечно возле него и там, на Бурунах, чтобы при случае отогнать зловещую Старуху-Цингу. Фёкла любила петь с Проней вдвоем в долгие зимние вечера, и знала твердо, что лучше этого душевного счастия уже не случится на ее веку.
«Ну что притихла, радость моя? Может, хочешь спеть на прощание: «Старый муж, грозный муж, жги меня, режь меня»? …Проня поддел двумя ладонями снизу-вверх пушистую седую бороду, обнажил шершавое горло, и как-то игриво, по-молодецки, плеснул шелковистую шерсть в лицо жене.

