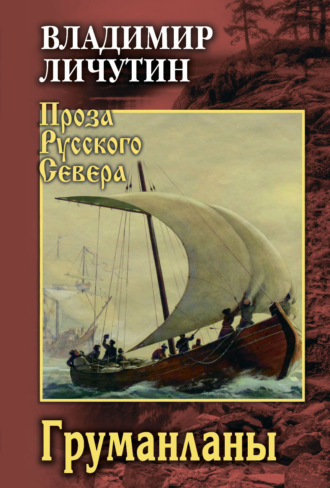
Груманланы
Еремей Степанович Окладников, купец-старовер, судовладелец из Окладниковой слободы, неустанными рисковыми трудами нажил на звериных охотах приличного капиталу, в середине XVIII века имел «в услужении три семьи самоедов, 15 душ канинских и мезенских ненцев. В 1743 году Еремей Степанович снарядил свою лодью на сальный промысел на Грумант. Судно было затерто и раздавлено торосами, а спасшиеся четыре груманлана прозимовали на арктическом острове Малые Буруны (о. Эдж) шесть лет и три месяца. Их приключения, напоминающие бедствие Робинзона Крузо на необитаемом тропическом острове, получили по всей Европе широкую огласку неповторимым мужеством и силой духа русского помора (об этом позже). Чтобы закончить страничку о возникновении города Мезени, припомню, что позднее в двух верстах от Окладниковой слободы на высоком угоре возле Большого Шара, выпадающего из реки, возник выселок Кузнецова слободка. Укоренились на моховой бережине промышленники Сопочкины. Фамилия коренная, поморская, произошла от понятия «сопец» – руль судна. Сопочкины имели кочи и лодьи, ходили для звериного промыслу на Матку и Грумант. Афанасий Сопочкин, как и Михайло Личутин (оба известные полярные походники), погибли на Новой Земле в 1790 году.
Именным указом Екатерины II от 5 января 1780 года Окладникова и Кузнецова слободы слились в приполярный город Мезень и получили государственный герб: по золотому полю бежит рыжая лисица.
Сначала Сокольня, где жили помытчики, стояла верстах в пятнадцати по Мезени, называлась Лампоженская слободка, выстроилась при Иване Калите на речном заливном острове: почему ставили заимку в столь незавидном месте, нам неведомо и никогда не узнать. Только лет через двести государеву сокольню перетащили на новое место – к устью Мезени. Может, там (в Лампасне) было безопаснее вываживать соколов-слетышей, ставить на крыло, менее было у сокола возможностей при напуске на птицу, поднявшись в небесный аер, вернуться в родное гнездовье на Канин, Вайгач, на Матку. Но когда московский князь Калита, собирая казну, с молодым задором забрал под себя Печору, устье Оби, обложил данью Пермь, чтобы купцы везли в московскую казну чудское серебро и скифское золото – река Мезень и Пинега обрели особое значение для государевой казны. Две приполярные реки вдруг выпятились на всеобщее посмотрение и заставили говорить о себе в приказах Кремля как о неиссякаемых угодьях московского двора, богатство которых невозможно измерить. О великом будущем Поморского края еще мало кто задумывался, вся история Скифской Руси была в тумане, события двигались осторожно, на ощупь, но вот сел на престол первый царь Иван Васильевич Грозный и, прозорливо взглянув на Сибири, невольно понудил русских поморов зашевелиться. И с великой охотою ринулись мои предки на неведомый Восток, где, по сказкам лихих «людишек», сулился «золотой дождь» и счастливая жизнь…
«Около 1326 года новгородцы и двиняне опять ходили в Скандинавию. Они тогда уже владели морской дорогою от Скандинавии до Печоры». Видоки, новгородцы и дети архиепископа Василия в 1316 году прошли из Колы к Мурманскому Носу (Нордкапу) обогнули его, побывали в Галогаланде и были отнесены жестоким штормом к северо-западу. В 1347 году Моислав Новгородец и сын его Яков ходили на северо-восток на трех судах. «И всех их было три юмы, и одна из них погибла, а две их потом долго носило ветром и принесло к высоким горам». Так описывает то путешествие архиепископ Василий. – «И свет был в месте том самосиянен, яко не мощи человеку исповедати: и пребыша не видеша, но свет был многочасный светящийся паче солнца. Моислав и Яков трижды посылали своих спутников на высокую гору видети свет. Один из новгородцев умер. Моислав и Яков побегоша вспять, ибо им не дано было дале того видети светлости, тоя неизреченные».
Картину северного сияния можно считать древнейшим описанием этого явления.
В 1328 году новгородский наместник печорской стороны Михаил Фрязин выходил на судах в Ледовитый океан добывать моржовую кость и тюленей.
Высокие горы, упомянутые архиепископом Василием напоминают Новую Землю. «Послание Василия Новгородского» содержит достоверные сведения о приключениях новгородских мореходов, покорявших «Дышующее море» до Соколиных гор Югры. Василий Новгородский соорудил в Софийском соборе Новгорода медные вызолоченные Царские ворота и огромные паникадила, на которых были отлиты из бронзы и покрыты золотом сказочные полузвери китоврасы. Кентавр, увенчанный зубчатой короной, украшал медные зеркала (медали), что были обнаружены в Поморье в разных местах. Этих китоврасов лепила из глины каргопольская игрушечница Ульяна Бабкина: зеркало с китоврасом обнаружили на Таймыре в поклаже безымянных поморцев, потерпевших аварию в начале XVII века. Знак китовраса сопровождал древнерусских мореходцев. Как мне помнится, мифического полузверя китовраса вышивали мезенские женщины на полотенцах и подзорах, вывязывали на рукавицах и шерстяных носках.
Письменные упоминания Ледовитого моря начинаются с начала второго тысячелетия, а куда же деть первое тысячелетие, когда апостол Андрей Первозванный пришел крестить Русь еще при жизни Иисуса Христа и по возвращении на родину, совершив путешествие вокруг Европы, был распят на косом кресте. Об этом летописцы отчего-то умалчивают, не вспоминает ни церковь, ни русская история о великом подвиге апостола, открывшем монастырь на Вааламе и крестившего население Киева, Полоцка, Словенска, народы по Дону и Днепру. Андрея Первозванного высоко чтил великий царь и первый император Иоанн Васильевич Грозный, которого чужебесные поклонники Петра I сронили и стоптали в беспамятство.
* * *Иван Калита начал движение на Восток, присоединив Пермь, Чердынь и низовья Оби, где затаилась легендарная Золотая старуха с ребенком на руках, роженица мирового народа и мать человечества. Похитить Золотую бабу пытались норвеги, шведы и южные варяги, почитатели бога Сварога, но Святую мамку надежно пасли волхвы и прятали в затаенных зачурованных местах. И до сих дней нет вести, сыскали ли ее воинственные норманны, чтобы переплавить на золото.
Дорога на Печору была известна издревле русским промышленникам: по рекам Мезени и Пёзе, мимо Варшинских озер к верховьям Цильмы, где на волоках в дымной кушной изобке кучились «пёсськие гулящие» парни, чтобы летом таскать клади на горбине и кормить-поить сменных лошадей, заготовлять сено, мох-ягель и веточный корм для скотины, ловить рыбу и бить зверя для своего харча: а зимою на тех конях-мезенках и на оленях тащили по волоку малые речные кочи, шитики, карбасы и лодки-однодеревки, меновой товар для ярмарок, оружие и промысловый снаряд. Переваливались на Цильму, весною спускались в Устье к Пустозерску и на Ямал, где самоядь и угры, выдавленные алтайскими скифами от родовых мест из Саян к устью Оби, привыкали к новой жизни – пасти оленей, охотиться в таежных лесах и бить зверя, – и вдруг были обложены ясаком, по пять соболей на самодина: другие же охочие государевы людишки и двинские купцы поднимались вверх по Печоре до порожистой Усы, оттуда пытаясь дойти до Ледовитого моря, по ней пехались на шестах через Каменный пояс до Ямала, где в потаенной скрытне пряталась Золотая старуха, великая мать всех матерей мира.
Иван Калита не забывал о Ледовитом море и Скифском Севере, где, по словам арабских путешественников, живут красивые белокурые голубоглазые мужики и жёнки: ведь с тех мест везли на Москву соболей, моржовую кость, белых медведей и песцов. Калита посылал указ в Холмогоры двинскому посаднику, чтобы тот не препятствовал печорскому наместнику в зверобойных путях промышлять соболей, куницу, песца и боровую птицу. По указу 1363 года можно узнать, что «Се аз Князь Великий Дмитрий Донской пожаловал есмь Андрея Фрязина Печорою, как было за его дядей Матфеем за Фрязиным».
Лампоженская слободка сокольников тогда уже стояла. Грамоту приводит в своей книге исторических находок «Земной круг» замечательный поэт, писатель, этнограф и путешественник Сергей Марков. Познакомился я с Марковым, когда учился в Москве на высших литературных курсах.
О писателе Маркове, удивительном русском этнографе, в те поры я даже не слыхал и ничего не читал у него. И как-то не «запнулся» об удивительного скромного русского географа, прошел мимо (значит, был еще не готов к литературе). А когда взялся за его труды, Марков вдруг умер, однако оставив в моей памяти, в истории Отечества и Мезени незамирающий след.
Так вот, грамоту эту Дмитрий Донской посылал печорянам, а значит и мезенским помытчикам, что ловили сетями соколов и кречетов в «стране Мрака» на гранитных склонах Каменного Пояса, Ямала, Колгуева, Вайгача, Канина, Матки… Велел им слушаться во всем Андрея Фрязина.
Весной 1496 года (при Иване III) бояре Иван и Петр Ушатые обошли Мурманский Нос и высадились с войском на скалистых берегах угрюмых фиордов, невдали от Ботнического залива. Стрельцов не остановил гибельный сулой у Святого носа, где сталкиваются разбойные встречные воды: этот дьявольский котел заманил и потопил в водовороте изрядно поморских кочей, идущих на моржовый промысел к берегам Груманта. Этим походом русских войск были возвращены земли между Торнео и Скифским морем. Венецианский посол Пьетро Пускуалито сообщал из Лиссабона, что мореходы Кортириала привезли с собой обитателей новой страны, похожих на цыган, смуглых, кротких и боязливых людей с раскрашенными лицами, их нагота была едва прикрыта звериными шкурами. Эти люди жили в стране лососевых рек и корабельных лесов. Пьетро полагал, что обитатели новой земли будут неутомимыми работниками и превосходными рабами. Во вновь найденной стране водятся большие олени с длинной шерстью и соболи. Там летают стаями (как воробьи) прекрасные соколы… Видимо кто-то из европейцев наслушался «сказок» мореходцев, проникших в устье Оби, где затеивался Мангазейский острожек, а Симеон Курбский на Печоре основал в те же годы Пустозерскую таможню…
Иван Третий укреплял рубежи Московии. В том же 1499 году или около того новгородский купец Окладников с сыновьями зарубили в устье Мезени рядом с Сокольней Новой первую избу будущей слободки. Иван III выстраивал пограничные рубежи, открывал ворота внуку своему Ивану IV Грозному, чтобы тот подклонил под Москву всю бескрайнюю Сибирю. Что первый русский царь Иван Васильевич и сделал, когда послал на восток описывать границы русского государства…
Заложив Пустозерский острожек, обнеся его листвяным чесноком, Семен Курбский, не дожидаясь большой вешней воды, отправился на Обь прямиком, через Уральский Камень, где до князя не хаживал никто. Покрытые вечным льдом вершины Урала Сабля и Тельнос были неприступны. Боярин трижды поднимался на Саблю и безуспешно спускался с полпути к подножью. Смирив гордыню, Курбский отказался от невыполнимого намерения и с огромным войском в пять тысяч мушкетов, с обозом в тысячу лошадей, измотавшись в походе, все-таки пробился через заснеженное ущелье на Сосьву и занял городок Ляпин. Сюда со своими отрядами, прослышав об успехах московского воеводы, пришли югорские князи и приняли московское подданство. В Ляпине рать Курбского встала на лыжи. Пошла вглубь Югории и заняла тридцать укрепленных засек. В Ляпине к рати Курбского примкнули и отряды Петра Ушатого…
* * *Мне трудно представить, какая была Окладникова слобода в шестнадцатом веке. Я помню Большую слободу (так мы звали родной город Мезень в начале 1950-х годов). Была Большая слобода и Малая (Кузнецова), между ними лежал большой прогал мшистой ляговины, в низине было местное кладбище, потаенное, ничем не выдающееся. Зимой Мезень заваливало снегом, не успевали огребаться возле дома, как снова заметало по застрехи; через улицы натоптаны глубокие бродные тропы по самые рассохи. Помнится осиянный день, глубокое с сединою небо щемит глаза, мороз склеивает заиндевелые ресницы, губы, треплет за уши и нос, снег скрипит под катанцами, когда спешишь по мосткам в классы или продлавку за харчом, и столько крахмальной белизны вокруг, столько ядреного шипучего воздуха, которого нельзя глотнуть в полную грудь, потому едва прихватываешь через норки носа, принакрытый скукоженной от дыхания варежкой. Избы сутулятся заметенные снегом под самые дымницы, окна заиндевели, поземка струит по дороге, бьет под коленки, сыплет на шапку вороха с дерев и огрузнувших крыш… Нынче такого ядреного мороза с ветром-хиусом и столь пылкого, обильного снегопада, пожалуй, и не посылают небеса много лет, и не случается, наверное, такой завирухи, несущейся по поскотине прямо в лицо, готовой опрокинуть тебя навзничь, сбить с лыж, когда, подавшись грудью вперед, едва пробиваешь замятель, увертывая глаза…
…Нынче я городской сиделец, и житейские заботы по очистке двора уже не по мне, года к земле клонят. Это уже теплое воспоминание о зиме детской поры, от которого сладит на сердце, и муторная надоедная война со снегом забыта в подробностях, или вспыхивает иногда в памяти, как цветная почтовая открытка из детских лет, когда каждая телесная жилка на вырост, так и просится на схватку, и заряды, эти всплески метели в лицо лишь вызывают восторг и беспричинный смех: хочется орать в полную силу, срывая с губ зальделую варегу…
Разве думалось тогда, а каково мезенцу-походнику в такие минуты в тайге на охоте, на дальних островах Груманта в зимовейке, на стану, в разволочной избе, в кипящем море, если застанет случай на твою беду среди напирающих льдов, готовых раздавить твою хлипкую беззащитную скорлупку. Подобные картины пока не приходят ребенку в ум, хотя и суровый мезенец-промышленник в детстве, конечно же тоже испытывал в метель подобное беспричинное счастие, если был уверен, что не затеряешься в пурге, и дом за спиною, почти рядом, в часе ходьбы…
* * *А весной и осенью Большую слободу заливало грязью. Сразу за окнами бабушкиной половины избы начиналась Малоземельская тундра, куда я с малых лет бегал за ягодами, а напротив нашей комнатенки за мутными стеклами маячила проезжая дорога (Первомайский проспект) по которой мохнатые лошади-мезенки тянули телеги с кладью в «верховьские» деревни, и ободья колес, проваливаясь по ступицы, с натугою месили жидкий суглинок. Мужичонко в лысой шапенке и потертой на локтях фуфайке, или в тулупе, потягивая махорную сосулю, сутулился на передней грядке, свесив ноги в кожаных котах и задумчиво уставясь в никуда, наверное, в этом великом спокойствии не замечал захвостанные грязью лошадиные стегна и круп и редко, покорно вздрагивающий обрезанный ребятнею гнедой хвост (конский волос шел на силья для пулонцев и на куроптя).
Темные понурые избы, потерявшие зимнюю снежную украсу, грустно сутулились по сторонам проспекта, уже не дожидаясь никаких перемен. Они не торопили время, как-то сразу остарясь, словно были рублены во времена царя Гороха, хотя были довольно молоды летами, но вот эта улица в дорожном жирном плывуне невольно подкидывала им возраста. Хозяева большинства домов остались в окопах, а вдовы бедовали, уповая лишь на будущие перемены, когда оперятся их Пашки и Малашки… Мутная бухтарма в небесах, сизая наволочь по-за лесами, дождь-ситничек уж который день кропит и лишь усугубляет всеобщую картину мирового уныния, той тоски от бессмысленности затрапезной жизни, от чего не спрятаться, но которая подвигает энергичного человека к жертвенным поступкам. И даже не верится, что у Окладниковой слободы было великое прошлое, и оно, братцы мои, не сотрется за временем, не потухнет, как отражение пламени, но будет всегда с деятельным человеком, как живой пример, останется на веки вечные, пока жива Русь. Только бы не забывать их благородные поступки, не превращаться в «Иванов, не помнящих родства».
…Перебираясь на другую сторону сосед, деловито примеряясь, поджидал, когда проползет телега, и кидал в плывун доску и, напряженно ступая, пересекал дорогу, чтобы не опачкать блескучие галоши и, поправив шляпу, отряхнувшись, будто зная, что за ним следят, шел на службу по Чупровской улице на Советский проспект. Эти сцены я видел каждый день в разных концах слободы, картины были будничны, ничем не удивляли и не убивали красоты родной Мезени. Большая слобода была единственной на весь белый свет, и краше, милее ее не сыскать. До окончания школы я нигде не бывал. («А чего не знаешь, о том не мечтаешь, о том не жалеешь». Таково неизменное свойство души.)
«Не верьте внешнему, – говорю я себе, уповая на силу духа и воли. – Ибо внешнее лживо, непременно выдаст внутреннее предательство».
* * *Замечательный писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов оставил свои впечатления о Мезени в книге «Год на севере» в красках самых черных. На первых же страницах книги, наверное, не ознакомившись с великим прошлым Окладниковой слободы, Сергей Максимов пишет: «Беглыми из Сибири и острогов преступниками и московскими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения».
Уже эти утверждения, не имеющие под собой ни капли правды, разочаровали меня в Максимове, которого я любил как редкого в России писателя. Да тот ли это литератор, что по крупицам собирал факты из простонародной жизни и тем самым невольно удивлял нас, несведующих в глубинах собственной истории? Если столько придумки в первых абзацах, то сколько чуждого, поверхностного и вовсе чудного обнаружится в его сказках о народе, которые он выдавал за подробности из русского быта.
Беглецов и преступников в наших лесах не бывало, ибо им не ужиться в студеных затишках, никак не прокоротать зиму без помощи, а северные крестьяне не терпели воров, нечистых на руку беглецов и разбойников с большой дороги, не поваживали и воров, а сразу тащили в мирскую избу на правеж. Да, они могли подать милостыньку каторжанину, которого вели в Сибири за караулом, пожалеть несчастного, закованного в железа, но если встречался на Северах или в Сибири беглый, бесконвойный, бежавший на волю, сострадательный мужик сразу отдавал его под начало полиции, чтобы не дурил на свободе и не натворил греха. Таково было правило деревенского мира в Поморье… Никто на Мезени не воровал, не грешил легкой наживою, замков мы не знали, еще на моей памяти дверь не запирали, а ставили к ободверине батожок. Если палка у ободверины, значит, хозяйка в соседях, можете заходить в избу и располагаться; если ключка подпиральная сунута в дверную дужку, значит, хозяйка уехала в другую деревню и скоро ждать ее не стоит. Максимов, видимо, эту подробность не знал.
Далее Сергей Васильевич пишет нечто подобающее для исправника, которому приказали искать преступников, а они вот тут, на меже за слободою: «Преступниками московскими и другими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения…»
Да, Беломорье издревле было гнездовьем и оплотом беспоповцев поморского согласия истинной Христовой веры, где учителем был мученик протопоп Аввакум. Да, были века гонений, когда государевы власти, отступившие от истинной церкви, раскололи ее, предали гонениям и костру. Тысячи добрых христиан, верных ревнителей Христа, были вкинуты в огонь императором Петром I и немкою императрицею Екатериной II. Только в Палеострове сожглись добровольно 3500 мучеников. В ответ на сопротивление власти обложили крестьян двойной и тройной невыносимой налогою, притесняли на каждом шагу. Поморцы объявили императора Петра «антихристом Первым» и оказались правы. Лишь в конце девятнадцатого века как-то криво, сумрачно и неискренне церковные власти попросили у староверов прощения за века гонений. Они, конечно же, понимали, что неправы, вздев на грудь крестьянина ярмо чужой веры, что жуткая печать раскола отныне лежит на их совести: это Никонова церковь повинна в многочисленных русских гарях, когда, не в силах отказаться от правоверия, истинные христиане пошли в костер, на великие добровольные муки, этим трагическим актом доказывая силу поморского духа и искренность настоящей русской веры. Это был воистину высокий национальный подвиг во имя русского Христа, с визгом осмеянный прислугою двора и чиновниками от церкви. Но этот подвиг добровольной жертвы повторили русичи в мировой схватке с сатаною в 1941-м, когда бросались с гранатою под танк, закрывали телом амбразуру, направляли самолет на вражеский эшелон, таранили истребитель противника. Еще в XVI веке поморские староверы почуяли гибельную сладость «ереси ветхозаветников», что в XV веке захватила фарисейскими речами княжеский великий стол, и новые еретики так плотно окопались под сенью престола, что и через пятьсот лет после смерти Ивана Васильевича Грозного не сыскалось в Москве той силы, чтобы совладать с сатанинской гидрою, прогнать вон в Боровицкие ворота…
Мне вдруг показалось, что Максимов написал о Мезени как-то зло, без капли жалости, как бы затворив для нее свою грудь: подобного от него я раньше не замечал. И вот, перечитывая, получил ожог души: «Все бедное событиями прошедшее города Мезени, который мрачно глядит теперь своими полуразрушенными домами, своими полусгнившими, непочиненными церквями. Ряды домов, брошенных без всякой симметрии и порядка, наводят тоску. Все почти дома пошатнулись на сторону и в некоторых местах даже надломились посередине и покосились в противоположные стороны. Съезды, выходящие по обыкновению всех русских деревень на улицу, здесь обломились и погнили: ворота, которые давно когда-то выпускали на эти съезды бойкую лошаденку когда-то на улицу из породы мезенок, как-то глупо, бесцельно торчат высоко под крышей и наглухо заколочены. Навесы над длинными задворьями обломились и самые стены этих дворов рухнули, сгнили, а может быть, и истреблены в топливе. Мостки возле домов также погнили и, непоправленные, провалились… Банями глядят дома бедняков, остатками Мамаева разгрома-дома более достаточных; но три кабака новеньких: но казначейство непременно каменное… По улицам бродят с саночками самоедки, с детьми в рваных малицах¸ вышедшие от крайней бедности на «едому». Из туземцев не видать ни души: может быть, холод, закрутивший 28 градусов, тому причиной…» (С.В. Максимов, 1856 год).
Более беспощадно и мстительно невозможно написать о Мезени, моей родине, оставившей по себе в истории России жертвенные страницы о созидании страны, их невозможно засыпать пеплом умолчания и небрежения, ведь это и мои дальние предки-груманлане увеличили почти в пять раз русские земли, наполнили казну, не получив за тяжкие труды ни капли благодарности, хотя и их непосильными трудами живет нынешнее Отечество. Оттого так скверно, безрадостно и выглядит полузабытая Мезень, описанная Максимовым в холодном пренебрежительном тоне: потратив на устроение двух столиц все силы, будто была стожильная, былую молодость и реки крови, заселяя Сибири поморским народом, покидая родимые края, быть может, навсегда (так позднее и случилось), нынче ждет протянутую руку помощи, ответной благодарности за содеянные труды, жальливого чувства сострадания и государева внимания. Использовали Окладникову слободу и выбросили на свалку истории, как пропащую ветошь.
И Максимов оскорбительно тычет пальцем в сторону мезенцев, обвиняет в лености, косности и непроходимой тупости: это, видимо, месть столичных властей поморским староверам за их стойкую верность истинному православию, за протопопа Аввакума, за очистительные костры, полыхавшие от реки Пезы и Выга, до Тобольска и Томска. И тут от легкости чувства, от небрежности к хранителям исконной русской натуры, к наследникам скифов, когда-то пришедших из Палестины к Ледовитому морю, в Гиперборею – и вдруг возникли эти легкомысленные строки о Мезени… от столь почтенного писателя, которым мы зачитывались. Что с ним случилось, какая муха укусила, когда выносил на бумагу стариковскую блажь:
«Нашему народу, – продолжал старик (Гаврило Васильевич долго живал в Архангельске на купеческих конторах), – плеть надо хорошую, чтобы горохом вскакивал. Наш народ – лентяй, такой лентяй, что вот если заработал на год одним промыслом, за другим не потянет руки и с места не подымется. А вот встанет на перепутье-то и начнет гоготать: ведь это дело легче, спорное это дело, особенно с голодухи! И добро бы ребята малые, али молодые, а то ведь у иного борода с лопату и вся седая – и он туда же. Вот и вспомнишь пословицу: борода-то, мол, выросла, а ума с накопыльник не вынесла» (с голодухи-то слезы роняют, а не гогочут на росстани. – В.Л.)…
Тут Сергей Васильевич выражал общее либеральное мнение тех лет, когда после реформы Александра II городские интеллигенты двинулись в деревни исправлять «освобожденного» от земли крестьянина, учить уму-разуму и хорошему поведению, но, увы, скоро разочаровались в мужике, в котором и для себя мечтали открыть нравственные вековые законы от Христа. Судя по стилистике этнографического очерка, это не поморы ведут умные речи, а Сергей Максимов вкладывает свои мысли в голову мужика, чтобы читатели подивились уму старика, которого писатель отыскал на берегу Белого моря. Но Запад уже глубоко и навязчиво вошел в саму плоть и стал иначить душу той благополучной жизнью, что вдруг, как манна с неба, посыпалась на протестантов: да никакой манны не просыпалось с неба, это вооруженные жестокие соседи, ворвались в чужой дом, и пользуясь силою, ограбили его, пролили реки крови и ныне не вспоминают о бедах Ближнего Востока, Китая, Индии, Африки и Америки. Не осталось ни одной «жаркой шафрановой земли», которую бы они не ободрали как липку, не наскребли в бездонную свою «пасть» золотых яичек, кинув народы в бездну крайней нищеты. И русским «западникам», этой прорве ненасытной саранчи, отравленной либеральными баснями, вдруг повиделось, что их будущая вольная жизнь в Европах досталась им от Бога: дескать, сам Христос им особенно мирволит, ибо жители атлантических берегов бесконечно умны и поставлены Господом владеть райскими палестинами, а поверив в сон золотой, крепко ульнули в тенетах зависти, ловко выставленных дьяволом.

