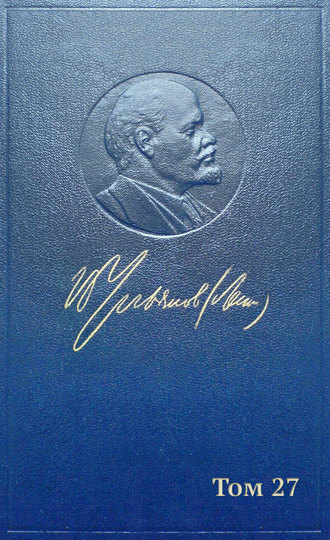
Полное собрание сочинений. Том 27. Август 1915 – июнь 1916
Мартов заканчивает свою, эффектными фразами жонглирующую, статью эффектнейшим призывом к «российской социал-демократии» «в самом начале политического кризиса занять ясную революционно-интернационалистскую позицию». Если читатель желает проверить, не гнилушка ли скрывается под этой эффектной вывеской, пусть он поставит себе вопрос: что значит вообще занять позицию в политике? (1) Дать оформленную, от имени организации (хотя бы «пятерки» секретарей), оценку момента и тактики, ряд резолюций; (2) дать боевой лозунг момента; (3) связать то и другое с действием пролетарских масс и их сознательного авангарда. Мартов и Аксельрод, идейные вожди «пятерки», не только не дают ни первого, ни второго, ни третьего, но дают фактически во всех этих трех областях поддержку социал-шовинистам, прикрытие их! За 16 месяцев войны пятеро заграничных секретарей не заняли ни «ясной», ни вообще никакой программно-тактической позиции. Мартов качается то влево, то вправо, Аксельрод гнет только вправо (см. его немецкую брошюру особенно). Ничего ясного, ничего оформленного, ничего организованного, никакой позиции! «Центральным боевым лозунгом момента, – пишет Мартов от себя, – для российского пролетариата должно стать всенародное учредительное собрание для ликвидации и царизма и войны». Это никуда не годный, не центральный и не боевой лозунг, ибо в нем нет главного, социально-классового и политически-определенного содержания понятия этой двойной «ликвидации». Это – вульгарная буржуазно-демократическая фраза, а не центральный, не боевой, не пролетарский лозунг.
Наконец, в главном, в связи с массами в России Мартов и Ко дают не только ноль, но минус. Ибо за ними нет ничего. Выборы доказали, что массы есть только у блока буржуазии и «Рабочего Утра», а ссылка на OK и фракцию Чхеидзе есть лишь фальшивое прикрытие этого буржуазного блока.
«Социал-Демократ» № 49, 21 декабря 1915 г.
Печатается по тексту газеты «Социал-Демократ»
Предисловие к брошюре И. Бухарина «Мировое хозяйство и империализм»
Важность и злободневность той темы, которой посвящена работа Н. И. Бухарина, не требует особых пояснений. Вопрос об империализме не только один из самых существенных, но, можно сказать, самый существенный вопрос в той области экономической науки, которая разрабатывает изменение форм капитализма в новейшее время. Знакомство с фактами, которые сюда относятся и которые так богато подобраны автором на основании последних материалов, безусловно необходимо для всякого интересующегося не одной экономией, а любой сферой современной общественной жизни. Само собою разумеется, что о конкретно-исторической оценке теперешней войны не может быть и речи, если в основу этой оценки не положено полное выяснение сущности империализма, как с его экономической стороны, так и с политической. Иначе нельзя подойти к пониманию экономической и дипломатической истории последних 10-летий, а без этого смешно и говорить о выработке правильного взгляда на войну. С точки зрения марксизма, который особенно рельефно выражает в этом вопросе требования современной науки вообще, может вызвать лишь улыбку «научное» значение таких приемов, когда под конкретно-исторической оценкой войны разумеют выхватывание отдельных, приятных или удобных для господствующих классов одной страны, фактиков из дипломатических «документов», из политических событий дня и т. п. Г-н Плеханов, например, должен был совершенно распрощаться с марксизмом, чтобы заменить анализ основных свойств и тенденций империализма, как системы экономических отношений новейшего высокоразвитого, зрелого и перезрелого капитализма, вылавливанием пары таких фактиков, которые приятны Пуришкевичам вкупе с Милюковым. При этом научное понятие империализма низводится на степень какого-то бранного выражения по адресу непосредственных конкурентов, соперников и противников двух только что названных империалистов, стоящих на совершенно однородной классовой почве со своими соперниками и противниками! В наше время забытых слов, растерянных принципов, опрокинутых миросозерцании, отодвинутых прочь резолюций и торжественных обещаний удивляться этому не приходится.
Научное значение работы Н. И. Бухарина состоит особенно в том, что он рассматривает основные факты мирового хозяйства, касающиеся империализма, как целого, как определенной ступени развития наиболее высокоразвитого капитализма. Была эпоха сравнительно «мирного» капитализма, когда он вполне победил феодализм в передовых странах Европы и мог развиваться наиболее – сравнительно – спокойно и плавно, «мирно» расширяясь на громадные еще области незанятых земель и невтянутых окончательно в капиталистический водоворот стран. Конечно, и в эту эпоху, приблизительно отмечаемую годами 1871–1914, «мирный» капитализм создавал условия жизни, весьма и весьма далекие от настоящего «мира» как в военном, так и в общеклассовом смысле. Для 9/10 населения передовых стран, для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эта эпоха была не «миром», а гнетом, мучением, ужасом, который был, пожалуй, тем ужаснее, что казался «ужасом без конца». Эта эпоха миновала безвозвратно, она заменилась эпохой сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной, когда для массы населения типичным становится не столько «ужас без конца», сколько «конец с ужасом».
Чрезвычайно важно при этом иметь в виду, что смена эта произведена не чем иным, как непосредственным развитием, расширением, продолжением самых глубоких и коренных тенденций капитализма и товарного производства вообще. Рост обмена, рост крупного производства – вот эти основные тенденции, наблюдаемые в течение столетий абсолютно во всем мире. И на известной ступени развития обмена, на известной ступени роста крупного производства, именно на той ступени, которая достигнута приблизительно на грани XIX и XX веков, обмен создал такую интернационализацию хозяйственных отношений и интернационализацию капитала, крупное производство стало настолько крупным, что свободную конкуренцию стала сменять монополия. Типичными стали уже не «свободно» конкурирующие – внутри страны и в отношениях между странами – предприятия, а монополистические союзы предпринимателей, тресты. Типичным «владыкой» мира стал уже финансовый капитал, который особенно подвижен и гибок, особенно переплетен, внутри страны и интернационально, – особенно безличен и оторван от непосредственного производства, особенно легко концентрируется и особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира.
Рассуждая абстрактно-теоретически, можно прийти к выводу, к которому и пришел – несколько по-иному, но тоже распрощавшийся с марксизмом – Каутский, именно: что не очень далеко уже и всемирное объединение этих магнатов капитала в единый всемирный трест, заменяющий соревнование и борьбу государственно-обособленных финансовых капиталов интернационально-объединенным финансовым капиталом. Такой вывод, однако, столь же абстрактен, упрощен, неправилен, как аналогичный вывод наших «струвистов» и «экономистов» 90-х гг. прошлого века, когда они из прогрессивности капитализма, из его неизбежности, из его окончательной победы в России делали заключения то апологетические (преклонение перед капитализмом, примирение с ним, славословие вместо борьбы), то аполитические (т. е. отрицающие политику или отрицающие важность политики, вероятность общеполитических потрясений и т. п.; ошибка специально «экономистов»), то даже прямо «стачкистские» («всеобщая стачка», как апофеоз стачечного движения, доведенный до забвения или игнорирования других форм движения и «прыгающий» прямиком от капитализма к чисто стачечному, только стачечному его преодолению). Есть признаки, что и теперь неоспоримый факт прогрессивности империализма по сравнению с полумещанским «раем» свободной конкуренции, неизбежности империализма и окончательной победы его в передовых странах мира над «мирным» капитализмом способен привести к столь же многочисленным и разнообразным политическим и аполитическим ошибкам и злоключениям.
В частности, у Каутского его явный разрыв с марксизмом принял форму не отрицания или забвения политики, не «прыжка» через многочисленные и разнообразные, особенно в империалистскую эпоху, политические конфликты, потрясения и преобразования, не апологетики империализма, а мечтания о «мирном» капитализме. «Мирный» капитализм сменен немирным, воинственным, катастрофичным империализмом, это Каутский вынужден признать, ибо он признавал это уже в 1909 г. в особом сочинении{53}, в котором он последний раз выступал с цельными выводами, как марксист. Но если нельзя попросту, прямо, грубовато помечтать о возврате от империализма назад, к «мирному» капитализму, то нельзя ли тем же, в сущности, мелкобуржуазным мечтам придать форму невинных размышлений о «мирном» «ультраимпериализме»? Если назвать ультраимпериализмом интернациональное объединение национальных (вернее: государственно-обособленных) империализмов, которое «могло бы» устранить особенно неприятные, особенно тревожные и беспокойные для мелкого буржуа конфликты вроде войн, политических потрясений и т. п., то отчего бы тогда не отмахнуться от теперешней, наступившей, наличной, сугубо конфликтной и катастрофичной эпохи империализма невинными мечтаниями о сравнительно мирном, сравнительно бесконфликтном, сравнительно некатастрофичном «ультраимпериализме»? Нельзя ли отмахнуться от «резких» задач, которые ставит и уже поставила наступившая для Европы эпоха империализма, посредством мечтаний о том, что, может быть, эта эпоха скоро пройдет, и что, может быть, мыслима еще вслед за ней сравнительно «мирная», не требующая «резкой» тактики, эпоха «ультраимпериализма»? Каутский именно так и говорит, что «подобная (ультраимпериалистская) новая фаза капитализма во всяком случае мыслима», а «осуществима ли она, для решения этого нет еще достаточных предпосылок» («Neue Zeit», 30. IV. 1915, с. 144).
Марксизма в этом стремлении отмахнуться от наступившего империализма и уйти мечтой в неизвестно, осуществимый ли «ультраимпериализм», нет и грана. Марксизм в этом построении признается для той «новой фазы капитализма», за осуществимость которой сам ее сочинитель не ручается, а для теперешней, уже наступившей, фазы вместо марксизма подается мелкобуржуазное и глубоко реакционное стремление притупить противоречия. Каутский обещал быть марксистом в грядущую, острую и катастрофичную эпоху, которую он вынужден был предвидеть и признать вполне определенно, когда писал свое сочинение 1909 года об этой грядущей эпохе. Теперь, когда стало уже абсолютно несомненным, что эта эпоха наступила, Каутский опять только обещает быть марксистом в грядущую, неизвестно, осуществимую ли, эпоху ультраимпериализма! Одним словом, сколько угодно обещаний быть марксистом в другую эпоху, не теперь, не при настоящих условиях, не в данную эпоху! Марксизм в кредит, марксизм-посул, марксизм на завтра, мелкобуржуазная, оппортунистическая теория – и не только теория – притупления противоречий на сегодня. Нечто вроде очень распространенного «по нонешним временам» интернационализма на вывоз, когда горячие – о, очень горячие! – интернационалисты и марксисты сочувствуют всякому проявлению интернационализма… в лагере противников, везде, только не у себя дома, только не у своих союзников; сочувствуют демократии… когда она остается обещанием «союзников»; сочувствуют «самоопределению наций», только не тех, которые зависимы от нации, имеющей честь считать сочувствующего в числе лиц, к ней принадлежащих… Одним словом, одна из 1001 разновидностей лицемерия.
Можно ли, однако, спорить против того, что абстрактно «мыслима» новая фаза капитализма после империализма, именно: ультраимпериализм? Нет. Абстрактно мыслить подобную фазу можно. Только на практике это значит становиться оппортунистом, отрицающим острые задачи современности во имя мечтаний о будущих неострых задачах. В теории это значит не опираться на идущее в действительности развитие, а произвольно отрываться от него во имя этих мечтаний. Не подлежит сомнению, что развитие идет в направлении к одному-единственному тресту всемирному, поглощающему все без исключения предприятия и все без исключения государства. Но развитие идет к этому при таких обстоятельствах, таким темпом, при таких противоречиях, конфликтах и потрясениях, – отнюдь не только экономических, но и политических, национальных и пр. и пр., – что непременно раньше, чем дело дойдет до одного всемирного треста, до «ультраимпериалистского» всемирного объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет лопнуть, капитализм превратится в свою противоположность.
XII. 1915.
В. ИльинВпервые напечатано 21 января 1927 г. в газете «Правда» № 17
Печатается по рукописи
Оппортунизм и крах II Интернационала{54}
Поучительно сопоставить отношение разных классов и партий к краху Интернационала, обнаруженному войной 1914–1915 гг. Буржуазия, с одной стороны, расхваливает, превозносит до небес тех социалистов, которые высказываются за «защиту отечества», т. е. за войну и за помощь буржуазии. С другой стороны, более откровенные или менее дипломатичные представители буржуазии злорадствуют по поводу краха Интернационала, краха «иллюзий» социализма. Среди социалистов, «защищающих отечество», те же два оттенка: «крайние», вроде немцев В. Кольба и В. Гейне, признают крах Интернационала, обвиняя в этом крахе «революционные иллюзии» и стремясь к воссозданию еще более оппортунистического Интернационала. Но на практике они сходятся с «умеренными» и осторожными социалистическими «защитниками отечества» типа Каутский, Ренодель, Вандервельде, которые упорно отрицают крах Интернационала, считают его лишь временно приостановленным, защищают жизнеспособность и право на существование именно II Интернационала. Революционные с.-д. разных стран признают крах II Интернационала и необходимость строить третий.
Чтобы решить, кто прав, возьмем исторический документ, который относится как раз к настоящей войне и подписан единогласно, притом официально всеми социалистическими партиями мира. Документ этот – Базельский манифест 1912 года. Замечательно, что в теории ни один социалист не решится отрицать необходимости конкретно-исторической оценки каждой войны в отдельности. Но теперь никто, кроме малочисленных «левых» с.-д. не решается ни прямо, открыто, определенно отречься от Базельского манифеста, объявить его ошибочным, ни проанализировать его добросовестно, сравнивая его положения с поведением социалистов после войны.
Почему это? Потому, что Базельский манифест беспощадно разоблачает всю фальшь рассуждений и поведения большинства официальных социалистов. Ни единого словечка этот манифест не говорит ни о «защите отечества», ни о различии наступательной и оборонительной войны!! Ни звука о том, о чем больше всего говорят, кричат и вопиют официальные вожди с.-д. как Германии, так и четверного согласия. Базельский манифест совершенно точно, ясно, определенно оценивает именно те конкретные конфликты интересов, которые вели к войне в 1912 году и привели к ней в 1914 году. Манифест говорит, что это – конфликты на почве «капиталистического империализма», конфликты Австрии и России из-за «преобладания на Балканах», Англии, Франции и Германии из-за их (их всех!) «завоевательной политики в Малой Азии», Австрии и Италии из-за стремлений «втянуть Албанию в сферу их влияния», подчинить ее своему «господству», Англии и Германии из-за их общего «антагонизма», далее из-за «покушений царизма на Армению, Константинополь и т. п.». Всякий видит, что это относится целиком именно к теперешней войне. Чисто завоевательный, империалистский, реакционный, рабовладельческий характер этой войны признан яснее ясного в манифесте, который сделал и неизбежный вывод: война не может быть «оправдана ни самомалейшим предлогом какого бы то ни было народного интереса», война готовится «ради прибылей капиталистов и честолюбия династий»; будет со стороны рабочих «преступлением стрелять друг в друга».
В этих положениях содержится все существенное, что необходимо для понимания коренной разницы двух великих исторических эпох. Одна – эпоха 1789–1871 гг., когда войны в Европе большей частью были связаны, несомненно, с важнейшим «народным интересом», именно: с могучими, затрагивающими миллионы буржуазно-прогрессивными, национально-освободительными движениями, с разрушением феодализма, абсолютизма, чужестранного гнета. На этой почве и только на ней выросло понятие «защиты отечества», защита освобождающейся буржуазной нации против средневековья. Только в этом смысле признавали социалисты «защиту отечества». И теперь в этом смысле нельзя не признать ее, например, защиты Персии или Китая от России или от Англии, Турции от Германии или России, Албании от Австрии и Италии и т. п.
Война 1914–1915 гг., как это ясно сказано в Базельском манифесте, принадлежит совершенно иной исторической эпохе, носит совершенно иной характер. Война между хищниками из-за раздела добычи, из-за порабощения чужих стран. Победа России, Англии, Франции несет удушение Армении, Малой Азии и т. д. – это сказано в Базельском манифесте. Победа Германии – удушение Малой Азии, Сербии, Албании и пр. Это сказано там же, это признали все социалисты! Лживы, бессмысленны и лицемерны всякие фразы об оборонительной войне или защите отечества со стороны великих держав (читай: великих хищников), воюющих из-за господства над миром, из-за рынков и «сфер влияния», из-за порабощения народов! Неудивительно, что «социалисты», признающие защиту отечества, боятся вспомнить и точно процитировать Базельский манифест, ибо он изобличает их лицемерие. Базельский манифест доказывает, что социалисты, способные признавать «защиту отечества» в войне 1914–1915 гг. – социалисты на словах лишь, а на деле шовинисты. Они – социал-шовинисты.
Из признания войны, связанной с интересами национального освобождения, вытекает одна тактика социалистов. Из признания войны империалистской, завоевательной, хищнической – другая. И Базельский манифест ясно очертил эту другую тактику. Война вызовет «экономический и политический кризис», – говорит он. Этот кризис надо «использовать» для «ускорения падения господства капитала»: в этих словах признано, что социальная революция назрела, что она возможна, что она грядет в связи с войной. «Господствующие классы» боятся «пролетарской революции», гласит манифест, ссылаясь прямо на пример Коммуны и 1905 года, т. е. на примеры революций, стачек, гражданской войны. Лгут те, кто говорит, что социалисты «не обсуждали», «не решили» вопроса об отношении к войне. Базельский манифест решил эту тактику: тактику пролетарски-революционных действий и гражданской войны.
Ошибкой было бы думать, что Базельский манифест пустая декламация, казенная фраза, несерьезная угроза. Так готовы заявить те, кого этот манифест изобличает! Но это неправда! Базельский манифест есть сводка гигантского пропагандистского и агитационного материала за всю эпоху II Интернационала, 1889–1914 гг. Этот манифест резюмирует, без преувеличения, миллионы и миллионы[15]прокламаций, газетных статей, книг, речей социалистов всех стран. Объявить ошибкой этот манифест значит объявить ошибкой весь II Интернационал, всю работу десятилетий и десятилетий с.-д. партий. Отмахнуться от Базельского манифеста значит отмахнуться от всей истории социализма. Базельский манифест не говорит ничего особенного, ничего экстраординарного. Он дает то и только то, чем социалисты вели за собой массы: признание «мирной» работы подготовкой к пролетарской революции. Базельский манифест повторил то, что говорил на конгрессе Гед в 1899 г., высмеивая министериализм социалистов на случай войны из-за рынков, «brigandages capitalistes» («En garde!», p. 175–176)[16], или Каутский в 1909 г. в «Пути к власти», указывая на конец «мирной эпохи», на наступление эпохи войн и революций, борьбы пролетариата за власть.
Базельский манифест доказывает неопровержимо полную измену социализму со стороны социалистов, голосовавших за кредиты, вступавших в министерство, признававших защиту отечества в 1914–1915 гг. Факт измены неоспорим. Отрицать его могут лишь лицемеры. Вопрос лишь в том, как объяснить ее.
Было бы нелепо, ненаучно, смешно сводить дело к личностям, ссылаться на Каутского, Геда, Плеханова («даже» такие люди!). Это – жалкая уловка. Серьезное объяснение требует разбора экономического значения данной политики, затем анализа ее основных идей, наконец, изучения истории направлений в социализме.
В чем экономическая сущность «защиты отечества» в войне 1914–1915 гг.? Ответ дан уже в Базельском манифесте. Войну ведут все великие державы из-за грабежа, раздела мира, из-за рынков, из-за порабощения народов. Буржуазии это несет увеличение прибылей. Маленькому слою рабочей бюрократии и аристократии, затем мелкой буржуазии (интеллигенция и т. п.), «примкнувшей» к рабочему движению, ото обещает крохи этих прибылей. Экономическая основа «социал-шовинизма» (этот термин точнее, чем социал-патриотизм, последний прикрашивает зло) и оппортунизма одна и та же: союз ничтожного слоя «верхов» рабочего движения с «своей» национальной буржуазией против массы пролетариата. Союз слуг буржуазии с буржуазией против класса, эксплуатируемого буржуазией. Социал-шовинизм есть законченный оппортунизм.
Политическое содержание социал-шовинизма и оппортунизма одно и то же: сотрудничество классов, отречение от диктатуры пролетариата, отказ от революционных действий, преклонение перед буржуазной легальностью, недоверие к пролетариату, доверие к буржуазии. Те же политические идеи. То же политическое содержание тактики. Социал-шовинизм – прямое продолжение и завершение мильеранизма, бернштейнианства, английской либеральной рабочей политики, их сумма, их итог, их результат.
Два основных направления в социализме, оппортунистическое и революционное, мы видим за всю эпоху 1889–1914 гг. Два направления по вопросу об отношении к социализму есть и теперь. Отбросьте манеру буржуазных и оппортунистических лгунов, ссылающихся палиц; возьмите направления в целом ряде стран. Берем 10 европейских стран: Германию, Англию, Россию, Италию, Голландию, Швецию, Болгарию, Швейцарию, Бельгию, Францию. В 8 первых странах деление на оппортунистическое и революционное направления соответствует делению на социал-шовинистов и революционных интернационалистов. Основные ядра социал-шовинизма, – в социальном, политическом смысле, – «Sozialistische Monatshefte»{55} и Ко в Германии, фабианцы{56} и рабочая партия в Англии{57} (Независимая рабочая партия шла в блоке с ними, и в этом блоке гораздо больше влияние социал-шовинизма, чем в Британской социалистической партии, в коей ок. 3/7 интернационалистов: 66 и 84), «Наша Заря» и OK (и «Наше Дело») в России, партия Биссолати в Италии, партия Трульстры в Голландии, Брантинг и Ко в Швеции, «широкие» в Болгарии{58}, Грейлих и «его» люди[17] в Швейцарии. Именно среди революционных с.-д. во всех этих странах уже раздался более или менее резкий протест против социал-шовинизма. Исключение: 2 страны из 10, но и в этих странах интернационалисты слабы, а не отсутствуют, факты скорее неизвестны (Вальян признавал, что получает письма интернационалистов, но не печатал их), чем не существуют.
Социал-шовинизм есть законченный оппортунизм. Это неоспоримо. Союз с буржуазией был идейный, тайный. Он стал открытым, грубым. Силу социал-шовинизму дал именно союз с буржуазией и генеральными штабами. Лгут те, кто говорят (Kautsky в том числе), что «массы» пролетариев повернули к шовинизму: массы не были опрошены нигде (за исключением, может быть, Италии – 9 месяцев споров до объявления войны! – ив Италии массы были против партии Биссолати). Массы были оглушены, забиты, разъединены, задавлены военным положением. Свободно голосовали только вожди – голосовали за буржуазию против пролетариата! Смешно и дико считать оппортунизм явлением внутрипартийным!Все марксисты, и в Германии и во Франции и т. д., всегда говорили и доказывали, что оппортунизм есть проявление влияния буржуазии на пролетариат, есть буржуазная рабочая политика, есть союз ничтожной части околопролетарских элементов с буржуазией. И оппортунизм, созревая десятки лет в условиях «мирного» капитализма, созрел к 1914–1915 гг. до того, что стал открытым союзником с буржуазией. Единство с оппортунизмом есть единство пролетариата со своей национальной буржуазией, т. е. подчинение ей, есть раскол интернационального революционного рабочего класса. Это не значит, чтобы был желателен или хотя бы лишь возможен немедленный раскол с оппортунистами во всех странах: это значит, что он исторически назрел, стал неизбежен и прогрессивен, необходим для революционной борьбы пролетариата, что история, повернув от «мирного» капитализма к империализму, повернула к такому расколу. Volentem ducunt fata, nol entern trahunt[18].

