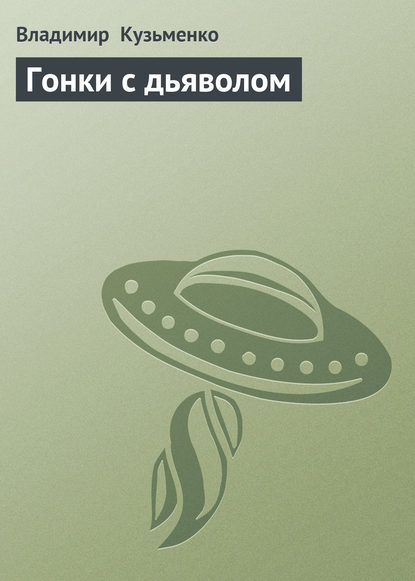По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гонки с дьяволом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты каждый раз ведешь себя так, будто это последняя наша ночь, – как-то сказал я ей.
– Может и так.
– Почему?
– Катерина очень красивая!
Что я мог ей ответить? Сказать, что меня не тянет в семью – значило бы солгать. Беата своим женским чутьем это понимала. Сколько раз я ловил на себе ее тревожный взгляд.
Как-то вечером Виктор затронул эту тему:
– Помнишь, в усадьбе мы говорили о человеческом достоинстве? Ты еще сказал, что воспитание его – главное условие будущего?
– Помню! Ты мне тогда возразил, что есть два противоречия. Первое мы выяснили, а какое второе?
– Второе? Гмм… Вот ты мне скажи, может ли… – он замолчал.
– Ну говори же!
– Я к чему… – он видимо не мог сформулировать свой вопрос… – словом так, как может быть развито человеческое достоинство вообще, я имею в виду, всего народа, населения, если ущемлено достоинство большей половины человечества.
– Ты имеешь в виду женщин? – понял я его.
– Да, именно! О каком достоинстве женщины можно говорить, если она вынуждена делить мужчину с одной, с двумя, а то и большим числом соперниц?
– Согласен. Но что ты предлагаешь?
Виктор развел руками:
– В этом и беда. Мы понимаем неестественность положения, но ничего сделать не можем. А дальше, наверное, будет еще хуже. Ведь пока рождаются только девочки!
– Я не к тому. Я хочу тебя спросить, если в основу демократии ты ставишь достоинство каждого человека, то возможно ли при такой ситуации построение демократии? Если нет, то все наши потуги в этом отношении напрасны!
– Нет, не напрасны, – вмешалась в разговор Беата, – Владимир имеет в виду, в первую очередь, гражданское достоинство человека. Не так ли?
– Но оно неотделимо… – попытался возразить Виктор.
– Я не окончила. Негжечне, пан Виктор, тщеба даць даме выповедзецьсе до коньца.
– Простите!
– Кобита (женщина – польск.) в вашим сполеченьстве не йест невольница. Она йест владчина свего циала и души! Она може одейсьць и никто йей не затшима! Так?
– Так!
– То трохы компенсуе!
Беата, когда волновалась переставала говорить по-русски или же пересыпала речь польскими словами.
– Дайте мне сказать, – тихо подала голос Ильга, – представьте себе, что наступил голод. Если каждый поделится куском хлеба со своим ближним, разве от этого пострадает демократия?
– Вот как? Ты уже сравниваешь мужчин с куском хлеба.
– Это так, образно.
– А ты поделишься?
– Я? Не знаю. Но, наверное, да.
– Думаю, что тебе не придется делиться ни с кем, – нежно глядя на нее сказал Виктор.
– Кто знает? Разве мы знаем, что будет с нами через год, через месяц и даже через день? Разве я могла мечтать три месяца назад, когда сидела со своими двумя подругами по несчастью в запертой комнате, избитая, униженная, вся дрожащая от страха и отвращения и, в то же время, покорная до омерзения, что вот так буду сидеть вечером со своим мужем за столом и слушать завывание вьюги за окном.
– Не вспоминай об этом!
– Это не забудется никогда… Не правда ли, Беата?
– Так. Николы.
Виктор подошел к жене и нежно обнял ее за плечи:
– Ты только не волнуйся. Тебе это вредно!
Ильга была на третьем месяце беременности и Виктор не отходил от нее, предупреждая любые ее желания. Недели две назад ей внезапно захотелось клюквы. Виктор ничего не сказал, но на следующий день задолго до рассвета ушел на лыжах. После пяти часов хождения по лесу нашел болото и собрал полную корзинку мороженой ягоды.
Жизнь полна неожиданных противоречий. Вот и Виктор – блестящий адвокат, главарь банды, бесстрашный, искусный разведчик, любящий, нежный муж – и все это в одном человеке. Человек сложен и неповторим. Легче предсказать поступки целого общества, страны, чем одного-единственного человека.
За окном раздалось ржание лошадей и скрип полозьев. Я накинул полушубок и вышел. У крыльца стояли сани, с которых только что соскочил Паскевич. В санях, прижавшись друг к другу, сидели Катюша и Евгения.
– Принимай гостей! – потребовал Фантомас. Тем временем женщины вышли из саней и подошли ко мне.
– Ну, здравствуй! – сказала Катя, подставляя щеку для поцелуя.
Ее примеру последовала Евгения.
– Где твоя пани? – с едва заметной иронией спросила Катя.
Я хотел проводить их в дом, но меня схватил за руку Паскевич:
– Пусть сами разбираются, – шепнул он. На нем был долгополый тулуп, перевязанный красным кушаком, в руках кнут, а на голове пушистая пыжиковая шапка. Ни дать, ни взять – удалой ямщик. Таких пыжиковых шапок мы обнаружили на товарной станции целый контейнер. Но, когда я спохватился зимой и хотел взять себе такую, их уже не оказалось. Все щеголяли в пыжиках, только мы с покойным Борисом Ивановичем ходили в овчинных. Он тоже опоздал!
Сашка, притопывая валенками, ходил вокруг саней и поправлял выбившееся из-под ковра сено. Он молчал. Молчал и я. Стало холодно. Я хотел идти в дом, но Сашка дернул за рукав:
– Не рыпайся!
В доме было тихо. Не было ни криков, ни ругани, по-видимому, все шло в рамках приличия. Прошло еще полчаса. Наконец, дверь раскрылась и на пороге появилась Евгения, а за нею Катя, которая вела под руку Беату. Поначалу я ее не узнал. Этой зимой она ходила в овчинной дубленке и валенках. Теперь на ней была круглая соболевая шапочка с белым пером цапли и такая же шубка. На ногах – сапожки на высоком каблуке. Я вспомнил, что этот княжеский наряд был обнаружен на личном складе Можиевского и тогда я подарил его Беате. Она его берегла, как выяснилось, для торжественного случая. Теперь он представился.
Как мало все-таки я знаю женщин! Беата, оказывается, не сомневалась, что все этим кончится. На сидениях в санях мне уже не было места. Я хотел было идти седлать коня, но Катя, со смехом схватила меня за воротник и свалила себе под ноги на дно саней.