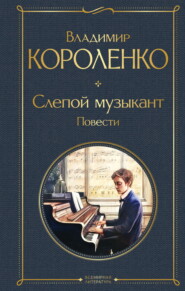По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
За иконой
Год написания книги
1887
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Оно и видно, что уж бог не потерпел, – вставил раскольник.
– Ну, значит, как помер он, надо было сундуки вскрывать. А замки у него так хитро прилажены: бились, бились – ничего не поделают. Вот и позвали, слышь, для этого дела нашего деревенского одного… Мастер тоже был на все руки. Он и отпер.
– Ну?
– Нехорошо, действительно… В одном, слышь, сундуке деньги так пачками и лежат, веревочками обвязаны. Он, значит, с иконой-то езжал не раз… А как другой открыли, так тут уж – тьфу!.. И сказать грешно: лежит в сундуке сделана девица, как быть живая…
Старообрядец, поднявшийся на локоть, с горящими глазами, не вытерпел и, перебив рассказчика, досказал сам:
– И, слышь, толкнуть эту девицу под ложечку, – сейчас она срамные слова может говорить…
– Слов-то, мы положим что, не слыхали, – сказал Савин.
Андрей Иванович молча и сосредоточенно покачал головой. Ободренный его видом, старообрядец заговорил с страстным возбуждением:
– Да ведь это, братец мой, что он говорит!.. Ведь уж въявь для всех знамение было от бога, что нельзя ему, батюшке, больше ихнего места терпеть. Насмердело!
В котелке закипело. Савин отодвинул котелок от огня и затем сказал своим ровным голосом:
– Знамение, братец, понимать тоже надо, к чему оно дается. Видите – опять это верно он говорит, что было знамение. Стало быть, на «порядке» у нас – видели, может, часовенька махонькая стоит. Тут прежние годы вертеп был. Этто вот завтра, к отвалу ярмарки, мордва соберется, видимо-невидимо. Так вот в прежние года, не очень давно, у них в этом месте игрища была; девки, бывало, хороводы водют, песни поют, а парни на гармониях играют, в дуды дудят… И все, значит, у самого монастыря; конечно, нехорошо, само собой. Бывало тут всего… И пришла, знаешь, один раз к игрищу этому девица, сторонняя какая-то. Мордва – вся белая, а девица эта в черном платье, только голова белым платком повязана. Вот пришла, стала средь игрища, стоит, этак руки вытянула, глазами в одно место смотрит. А чья девица, неизвестно. Вот разошлась мордва с игрища, а она стоит. Ночь пришла, – она все ни с места. Наконец, того, поверите ли, на заре вышли наши бабы коров гнать… Что за диво: стоит девица середь полянки, ровно статуй, перепугала народ весь… Стали которые подходить, спрашивают: «Что, мол, девонька? По какой причине стоишь?» Ни слова. Ну, тут уж увидели, что дело это не простое. Приехал исправник Воронин, свели ту девицу силом с места, и стала она после того объяснять: «Вышла, говорит, на игрищу и вдруг этто вижу: все кругом провалилось… Я одна на малыим месте стою, и ступить мне некуда… А икона, значит, на облаке в небо поднялась…»
– Ну, вот видите! – подхватил старообрядец. – Ведь уж это въяве обозначает, что ихнему месту не стоять…
Андрей Иванович сосредоточенно покачал головой и сказал, обращаясь к Ивану Савину:
– Поэтому, вижу я, ваше дело ай-ай плохо…
– А я так полагаю, – ответил Иван Савин, – не может быть, чтобы нам провалиться, потому ты рассуди сам, милый человек: первое дело игрищу с этих самых пор унистожили, отслужили на том месте молебен с иконой и поставили часовенку…
– Да что игрища!.. Будто в одной игрище дело, – перебил возражатель, – насмердело ваше место перед господом, аки Содома!
Иван Савин снял совсем котелок с огня, попробовал кашу и сказал другому «бекетчику»:
– Готово, дядя Силантий, пущай вот поостынет маленько. – Затем, обратясь к собеседнику, ответил: – Это, брат, ты сверх ума говоришь. Это неизвестно. Конечно, грешны и мы, а все за монахов, авось господь с нас не взыщет. Они особо, мы особо… потому мы разве монахам молимся? Мы владычице молимся, вот кому… Тоже ведь и об вас было знамение…
– Мало ли! – угрюмо сказал старообрядец и затем поднялся. – Пора и запрягать нам.
Оба они с товарищем пошли к лошадям.
Белесый мужичок, сидевший в телеге и слушавший очень внимательно весь разговор, подошел к огню и, почесывая руками брюхо, сказал, лукаво подмигивая в сторону ушедших:
– Не любят… Как про них заговорили, им и запрягать надо…
И затем, постояв несколько секунд, он опять улыбнулся и сказал:
– А у нас, слышь, еще кака-то новая вера прискочила. Астрицка, что ли, сказывают. Часовню хотят строить.
– А какое же, говоришь, знамение об них? – обратился Андрей Иванович к Савину.
– Да вот знамение тоже не малое. Ходит тут паренек ихний, безумный. Этто недавно целую деревню спалил, а прежде того у нас в монастыре не в урочное время на колокольню забился и давай звонить… Народ весь перебулгачил. Просто сказать – юродивый паренек этот. А отчего стал юродивый, так вот от чего. Был он у них за первеющего начетчика и на радениях ихних заместо попа читал. «Вот, говорит, однажды, – сам ведь и рассказывает это, когда в себя приходит, – много, говорит, читал, толковал от ума, в перстах божество разбирал… Устал. Выхожу, говорит, на крыльцо, стал, говорит, супротив ветру, прохлаждаюсь маленько. А дело вечернее. На небе звезды горят и луна стоит, – светло, как вот днем. Только, говорит, слышу, вдруг трещит что-то над лесом. Оглянулся туда: летит поверх лесу змий крылатый, а-агромаднейший змий летит, весь пламенем пышет и трещит так, ровно бы в трещотку… Оглянуться, говорит, не успел я, – уж он полнеба покрыл и прямо на нашу деревню, да ко мне, да пасть расставляет…» Вот ждут-пождут в избе, а парня все нету. Вышли за ним, а он лежит пластом, как неживой. С тех пор и ума решился. Когда и опомнится, так все-таки ненадолго…
– Галактионыч, вы не спите? – спросил у меня Андрей Иванович.
– Нет, Андрей Иваныч, не сплю.
– Слушаете?
– Слушаю.
Он помолчал, по-видимому ожидая от меня еще что-то, потом сказал (я представлял себе при этом его наморщенный лоб и сосредоточенный взгляд):
– Удивительное дело, право!.. Вот мы сколько лет в городах живем и никаких чудес не видали. А у вас кругом, куда ни повернись, чудеса… Или уж просты вы очень…
– Ах, милый! – сказал Иван Савин. – Нешто можно городского человека к мужику применить?.. Ты вот, скажем, сапожник. Купил ты товару, сшил сапог, несешь его к барину или, будем говорить, к купцу. Сейчас он смотрит: сапог форсистый, товар хороший, работу твою знает, и спрашивает он у тебя цену. Ты, к примеру, просишь пять рублей, он тебе – четыре. А уж оба верно знаете, что за четыре с полтиной сапог этот идет. Ежели, скажем, нужда тебе, ты опять у него же просишь. Так ли я говорю?
– Ну, ну!.. к чему только ты это применишь?
– А к тому, что, значит, ты в своей воле живешь, и должен ты больше уважать давальцу. А мужик… он кругом как есть в божьей воле ходит. Сейчас вот парит крепко, а из-за лесу вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему, только что разве промокнешь. А мужик – уж он соображает, стало быть, к чему господь батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она пользительна, и мы должны бога благодарить. А иной раз бывает: хлеба налились, вдруг холодом пахнет, побежит-побежит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать, икону мы подымаем, молимся: отвороти! И, стало быть, ежели может еще грехам нашим терпеть, то заступится, пронесет мимо. А ежели уж невозможно ей терпеть, мы должны бедствовать. Так-то…
– И видите вы себе от иконы заступление?
– И-и, как не видать! Явственно видим. Давно ли было, третьего или четвертого году, появился червь на хлебах… И нигде не было, только у нас… что на ржи, что на просах, и даже лен жрал. Из себя небольшой, черный, мохнатенький, глаза у него востренькие, а ежели подразнишь его соломинкой, так он и вскидывается, ровно бы, сказать вам, змееныш. Злющий червь! Пошел я с мальчонкой, с племяшом, на ниву посмотреть. Хлыстнули прутом по колосу, – поверишь ли, как дождь, вот как дождь этого червяка посыпалось. Ну, видим мы такое наслание, стало быть, не иначе – надо икону поднимать. Подняли, прошли с молебствием, и взялась тут туча – а-агромная туча – и ударила на поля ветром да грозой. Что же вы думаете: вышли наутро в поле – ни одного червя!
– А насчет того, чтобы больных исцелять… бывало ли?
– В прежние года много бывало. А теперь не слышно. В книжках вот писано… Значит, про моровую язву и потом насчет болящих…
– А у нас так вот была же чуда от иконы, – вмешался белесый мужичонко, – и, слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городу купчиха одна, и дочь у той купчихи была хворая. Скрючило ее с тринадцатого году, ноги отняло, и не стало ей росту. Все, бывало, на лежанке сидит, и, ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть малая девчонка, а уж в ту пору было ей по семнадцатому году. Много тоже молились они, что икон поднимали, – все не берет сила!.. Почаевска, слышь, и то не могла помочи ей… Только раз приснился той девице старичок седенький: «Сходи, говорит, ты, скорбная девица, к Николе, в Н-ское село». Ну, они и поехали. И ведь что думаете вы: положили девицу наземь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала: как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло, – значит, сила изошла. И с тех пор выпрямилась девица вполне и такая стала красавица!.. Приехала через три года в то село с матерью, – священник ее и не узнал. «А где же, говорит, болящая?» – «А это, говорит, я самая». За хорошего жениха замуж вышла, право!.. Своя лавка у него в городу, и капитал хороший… Вот, братцы, удивительная чуда была у нас! – и белесый мужичонко посмотрел на нас довольными глазами.
– Конечно, бывает, – сказал Иван Савин.
– Галактионыч! – окликнул меня опять Андрей Иванович. – Слыхали вы это?
– Слышал.
– А как думаете, может ли это быть?
– Я думаю, что он не врет.
– Э, не туда гнете: не врет!.. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут… А вы скажите, в чем сила самая? Скажем так: холере надо уже и самой прекратиться, – тоже ведь не вечно ей быть. К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла – чудо!.. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое: тучу ветром пригнало. А ежели девицу теперь, которая скрючивши три года, и вдруг выпрямляет и вполне, значит, делает из нее человека… Это как?
– Вера, Андрей Иванович…
Андрей Иванович опять выжидающе помолчал.
– Вера, вы говорите?.. То-то вот и есть. Э-эх, господа, господа!..
И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.