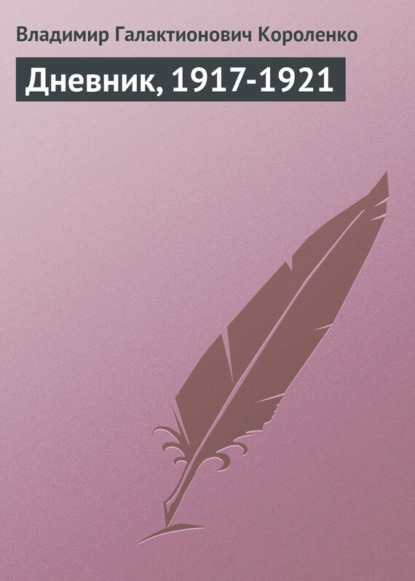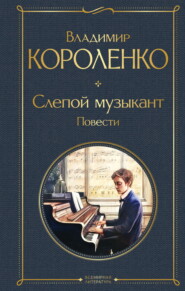По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник, 1917-1921
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
… Мы одобряем тактику фракции коммунистов, выразившуюся в разгоне этой желтой банды, намеревавшейся нанести удар в спину нашей доблестной Кр‹асной› Армии, отбивающей бешеные атаки польской шляхты и бар‹она› Врангеля. Мы требуем удалить негодяев и т. д.». Эти покорные овечки сов‹етской› власти, накидывающиеся на свою же оппозицию, достаточно ярко рисуют положение: самостоятельное слово пролетариата, объявленного диктатором, подавляется крутыми мерами одной партии. Все низкопоклонное рукоплещет этому, все самостоятельное затаивает бессильную вражду.
К нам явились плотники из Орл‹овской› губ‹ернии›, знакомые по постройке нашей дачи в Хатках
. Нам пришлось чинить балкон нашего дома. Собственность на дома уничтожена, плата за квартиры вносится в домовые комитеты (домкомы). Предполагается, что есть какое-то учреждение, которое заведует домовым делом. Нам предлагали обратиться туда, и даже можно бы было прибегнуть к этому способу, благодаря тому, что «писатель Короленко» пользуется некоторым признанием сов‹етской› власти. К нам приходили даже двое плотников. Один – человек, кажется, довольно скромный и приличный. Другой прямо начал с того, что «сделать можно, если с вашей стороны будет нам» и т. д. Мы не пожелали даровой починки с взятками и сказали, что мы за все заплатим. Они определили тогда самую поверхностную починку крыльца в 65 тыс. рублей… Орловцы, мужики тоже не без хитрости, но в общем очень все-таки приятные, до отправления в деревню, где намерены «поработать и покормиться», после легкого торга взялись сделать то же за 30 тысяч, если хозяйка даст срубить несколько столбиков для колонн. Несколько дней они у нас работали сначала вдвоем, после втроем (один день). У них неурожай, жалуются на поборы сов‹етских› властей. Рассказывают, что все кругом рушится. Один из их товарищей отправил вперед жену и мальчонку. Ни баба, ни мальчик не прибыли. Мужик отправился их разыскивать. «Вот-те и заработок!» И это второй случай: также пропал в дороге один из их товарищей. «Нужен, нужен хозяин!» – это постоянный припев после таких рассказов. Кто будет этот хозяин, – неясно: царь или учредительное собрание, но… нужно, чтобы кто-ниб‹удь› завел «настоящий порядок».
На днях ко мне пришли с Важничего переулка два человека, – один из них член районного комитета, с известием, что весь переулок выселяется. Сов‹етские› власти затеяли создать там детский приют. Это теперь делается просто: со всего переулка выселяют жителей, не позволяя уносить с собою многих вещей, и затем, на расчищенном таким образом пространстве, – создают, что им угодно. Пока все-таки Важничий переулок еще оставлен в покое[78 - «Кажется, дело остановлено». – Примеч. В. Г. Короленко.]. Сегодня пронесся слух о выселении таким образом всей нашей Садовой улицы. Дойдет, быть может, очередь и до нашей семьи. Одно время в прошлом году ко мне то и дело приходили красноармейцы и чекисты реквизировать мою квартиру, а один прямо заявил о намерении реквизировать мой рабочий кабинет. Я заявил, что рабочего кабинета не отдам, разве возьмут силой. Потом последовало распоряжение Центр‹альной› власти, вследствие которого у меня всякие попытки реквизиции прекратились, и мне выдали охранную грамоту. Теперь то же может подойти с другой стороны, если выселят всю улицу.
Элементарное право всякой свободы – неприкосновенность жилища – признано теперь буржуазным предрассудком.
Третьего дня вечером пришел ко мне В. В. Беренштам и принес телеграмму из Харькова: «Передай срочное распоряж‹ение› тов. Раковского. При посредстве и по инициативе друзей Владим‹ира› Галакт‹ионовича› Короленко установите состояние его здоровья, выясните, куда лучше всего направить больного, и обеспечьте все удобства поездки. Если по состоянию здоровья ему лучше бы провести некоторое время предварительно в санатории, тов. Гуревич наметил здесь таковую. Если можно ехать на Кавказ, – пусть приезжает сюда провожатым врачом для дальнейшего пути. Ответ срочно сообщите тов. Раковскому, копия Наркомздрав тов. Гуревичу. 7/8 20. – Управляющий делами Совнаркома Ждан-Пушкин. № 1026».
Я ответил Беренштаму, что болезнь моя хроническая, но никакого обострения сейчас нет, а Раковскому написал, что благодарю его за заботу, но надобности в поездке, не вижу.
Местный Комздрав Волкович уже спроектировал для меня санаторий в Горбаневке, якобы в 2-х верстах от города. Но, во 1-х, Горбаневка не в 2-х, а в 7-ми верстах от города, во 2-х, мне пришлось бы жить среди красноармейцев и коммунистов, и, в 3-х, – я вообще избегаю таких любезностей и предпочитаю жить в своей семье.
Полтава представляет островок среди восставших деревень. Недавно я отправил письмо Петровскому, председателю Всеукр‹аинского› Центр‹ального› Исп‹олнительного› Комитета. У нас пронесся слух, что начнут расстреливать заложников, которых набрали из разных сел и деревень сотни. В тюрьме паника. В письме (я теперь оставляю копии, м‹ежду› прочим в тетради, где записываю просьбы приходящих родных) я говорю о варварском обычае заложничества и спрашиваю, неужели сов‹етская› власть хочет превзойти в жестокости войну, во время которой заложникам грозили, но не расстреливали… Письмо это взялся передать Петровскому Ганько, кандидат в начальники Полт‹авской› Ч. К. Говорят, он потребовал права сместить весь персонал чрезвычайки. Прасковье Сем‹еновне› он сам предложил отвезти мое письмо, сказав, что совершенно согласен с моим мнением. Петровский – тоже, говорят, человек порядочный, старый с.-д., не разделяющий свирепости Лацисов. До сих пор еще из заложников, кажется, никто не расстрелян[79 - «Впоследствии это происходило и печаталось в газетах, см… напр., „Известия“… No…». – Примеч. В. Г. Короленко.].
‹30 июля› 12 авг‹уста› н. с.
После обеда вчера пришла Пашенька оч‹ень› расстроенная: телеграфистку Стеценко и еще двух с нею перевели из тюрьмы в Ч.К. Это значит – расстреливать!
С этой телеграфисткой – странная история. Она стала списывать телеграмму, имеющую специально военное значение (о передвижениях войск). Когда ее спросили, зачем она это делает, – она отвечала невпопад и глупо. Мне говорили другие ее сослуживицы, что контролер не выказывал намерений непременно сделать историю, но ее ответы поставили всю историю так, что пришлось дать офиц‹иальный› ход. При обыске на ее квартире, говорят, по одним источникам – нашли еще целый ряд таких же копий. По другим – ничего, кроме царского портрета и кадетской фуражки брата. На все вопросы она отвечала: «Не знаю». Говорят, будто она сильно переутомилась. Кроме телеграфа изучала еще фельдшерское искусство при богоугодн‹ом› заведении. Сначала выказывала странное равнодушие к своей судьбе…
Ее подруги и некоторые из сослуживцев приходили ко мне. На мои вопросы решительно заявляли, что Стеценко была беспартийная, ни с какой партией в сношениях не была, и все приписывают ее поступок – легкомыслию. Почтово-тел‹еграфная› среда очень заинтересована ее судьбой. Пашенька справлялась. Пронесся слух, будто ее пытают, чтобы выведать у нее, с кем она была в сношениях, но, кажется, это маловероятно. Потом она заболела, еще не оправилась, и вот – переводят в чрезвычайку. Значит, сегодня ночью расстреляют. Другой с нею – человек, который, говорят, стрелял при аресте. Про третьего не удалось узнать ничего.
Я решил сопровождать Праск‹овью› Сем‹еновну› к Порайко. Порайко – председатель нашего губисполкома – галичанин. Я думал, что это – один из тех братушек, которые тучей летели в Россию на «классическую систему», а теперь также готовы служить большевизму. Но я ошибся. Передо мной был еще молодой человек, лет 30-ти, 32-х, хорошо говорящий по-русски, с не совсем правильным, но неглупым лицом; довольно, даже, пожалуй, вполне, интеллигентный и убежденный. В разговоре он прямо сказал, что знает мою точку зрения (я писал ему, что протестую против бессудных расстрелов), но не разделяет ее. Меры строгости нужны. У Стеценко найдены копии многих военных телеграмм, и есть большое подозрение в шпионаже. В конце концов он обещал проверить следствие, но сказал прямо, что если приговор уже состоялся, то сделать что-нибудь трудно. Он знает, что я называю казни бессудными, но тоже не согласен с этим: у Ч.К. есть особые следователи, но судит коллегия. Я попытался выяснить свою точку зрения: хотя бы и «коллегия», но коллегия следств‹енного› учреждения, не проверяемая никаким судом. Я рассказал случай из практики полт‹авской› Ч.К., когда дело приговоренного уже Чр‹езвычайной› Ком‹иссией› к казни удалось довести до рев‹олюционного› трибунала, трибунал его оправдал, и этому приговору рукоплескали даже часовые-красноармейцы… Не знаю, убедительно ли это показалось товарищу Порайке, но мы ушли без надежды: очевидно, для Стеценко этот чудесный закат будет последним.
А в ней, по-видимому, проснулась жажда жизни. Ей принесли подписать протокол, и она его подписала, не читая. Теперь в этом раскаивается. Из этого протокола ей бросилось в глаза одно слово «шпионство». Вероятно, она призналась таким образом в шпионстве…
Как бы то ни было, из разговора с Порайко я вынес впечатление убежденности. Если это и тупость, то тупость всего большевизма, все дальше погрязающего стихийно в дебрях жестокости и неправильной политики. Нечто в этом роде я и высказал в разговоре с ним. Он пожал плечами. Дескать, остаюсь при своем.
‹1› 14 августа н/с
Стеценко расстреляна. Эти дни для меня очень тревожные. Пришлось писать Магону, Порайке, в Харьков. Очевидно, нервы у меня притупились, – сплю все-таки по ночам без веронала!
Первый раз после недель двух пошел в гор‹одской› сад. Встретил знакомого. «Подите, посмотрите!»
Солдаты ушли, но в саду явные следы их пребывания: целые звенья забора с улицы разобраны, а с другой стороны целые заборы разобраны, не говоря о том, что все загажено до невероятности.
– Если это такая свобода, – говорит проходящий по дорожке человек, видя, что я рассматриваю следы опустошений, – то…
Я не слышу, что он ворчит далее.
‹5› 18 авг‹уста› н. с.
Вчера приехали иностранные гости, члены III интернационала, провозглашенного в России. Если не ошибаюсь, этот интернационал признанием европ‹ейского› пролетариата не пользуется. В местных газетах заранее объявлено, что дома должны быть украшены красными флагами и знаменами. На центральных улицах это и было сделано наверное, но утром, когда я прошел по Шевченковской улице, на расстоянии квартала я увидел только 2 красных лоскута, довольно жалких. Оно и понятно. В Полтаве нет не только красной, но и никакой материи, так что никакими строжайшими приказами нельзя заставить жителей расцветить город.
Сегодня в газете «Большевик» напечатана статья «Без буржуазных предрассудков». Она гласит: «Постановлением Всеросс‹ийского› Исп‹олнительного› Центр‹ального› Комит‹ета› об отмене платы за хлеб уничтожаются последние буржуазные пережитки. Мы переходим к „натурализации“ нашего быта. Самые необходимые вещи, как хлеб, мы будем получать не за деньги, а по праву трудящегося человека. Плата за хлеб была только ненужной, обременяющей советское строительство формальностью…» Далее говорится о том, что хлеб приходится продавать по 5–4 рубля за фунт и сколько для этого приходится держать кассиров, бухгалтеров, счетчиков. За продажу хлеба в Москве получается 20 мил‹лионов› в месяц, а затрата на плату кассирам приходится 4 миллиона. Теперь, с уничтожением денежной платы за хлеб, можно будет уменьшить эти расходы и избавиться от очередей, хвостов и т. д.
То же сделано и с проездом по жел‹езным› дорогам. Отменена плата за провоз людей и багажа. «Так мы уничтожаем последние буржуйские предрассудки» (буржуйськи забобоны, – статья написана по-украински).
Я давно уже думал, что когда-нибудь это должно быть сделано и человек будет когда-нибудь получать хлеб даже не «по праву трудящегося», а просто по праву человека. Но как это сделать? До этого еще далеко. Прежде всего – уничтожение учета – не удастся, или начнутся грандиозные злоупотребления. Во-вторых, кроме потребления есть еще производство… Как будет с платой за хлеб производителю. Теперь большевизм, назначая по 4–5 р. за фунт, – делает это искусственно, насильственно понижая цену хлеба, отнимая хлеб у крестьянина и возбуждая так‹им› образом страшную ненависть.
В идее (далекой) мера правильная, но практически мне она кажется безумной.
‹8› 21 авг‹уста›
Третьего дня был N и рассказал, что в городе носится слух, будто «по ошибке» чрезвычайка расстреляла 32 человека, которых еще не судили. Слух подлежит проверке, но достаточно уже и слуха, чтобы показать, как дешева стала человеческая жизнь…
Сегодня, в воскресенье, мне привезли дров. Я думал, что эту зиму мне не пережить. Прошлая зима отняла у меня много сил, благодаря недостаточной топке. 9® мы считали достаточным, а бывало и значит‹ельно› ниже. При плохом сердце – это сказалось тем, что и весна и прекрасное лето не могли меня вернуть к сносному хотя бы существованию. А теперь купить дров прямо невозможно. Полтава обречена на холод, и я порой смотрел на чудесную зелень из городского сада, на слегка затуманенные и освещенные солнцем склоны и дали с мыслию, что, может быть, это мое последнее лето. И мне вспомнился один разговор еще в Нижнем. Мы сидели на берегу Волги на откосе. А. И. Богданович
(уже покойный) развивал свои пессимистические взгляды. Я перебил его: «Ангел Иванович. Да вы только посмотрите, какое это чудо! – Я показал ему на заволжские луга и на полосы дальних лесов. – Мне кажется, – если бы уже ничего не оставалось в жизни, – жить стоило бы для одних зрительных впечатлений».
И он тоже загляделся. Теперь мне вдруг вспомнился этот день, эти луга, освещенные солнцем, и Волга, и темные полосы лесов с промежуточными, ярко световыми пятнами. Теперь я стар и болен. Жизнь моя свелась почти на одни зрительные впечатления, да еще отравляемые тем, что творится кругом… И все-таки мир мне кажется прекрасен, и так хочется посмотреть, как пронесутся над нами тучи вражды, безумия и раздора, и разум опять засияет над нашими далями… Я был почти уверен, что не дождусь даже начала этого нового дня. Не знаю подробностей, кто организовал этот воскресник. Вероятно, какой-нибудь кооператив. В этом чувствуется и дружеское расположение рабочих и интеллигенции. И жить опять не только хочется, но и еще являются надежды.
* * *
Сегодня[80 - «Biсти (Известия)». 21 авг. 1920, № 69. – Примеч. В. Г. Короленко.] напечатан длинный список расстрелянных. Список носит заглавие: «Борьба с бандитизмом, контрреволюцией и злостными дезертирами». По постановлению коллегии Губ‹ернской› Чрезв‹ычайной› Ком‹иссии› расстреляны следующие лица. Не говорится ничего о том, когда состоялся «суд этой коллегии». Вероятно, в разные числа. Но все-таки прежде отмечалось, что «суд» состоялся тогда-то, приговорены такие-то к см‹ертной› казни, такие-то к конц‹ентрационному› лагерю. Теперь речь идет об одних расстрелянных. Невольно приходит в голову, что слух о 32-х, расстрелянных по ошибке, еще до «суда», – имеет основание: в общей сумме стараются, дескать, утопить и эту «ошибку». Всех расстрелянных 42 человека. В этом числе есть несколько лиц, о которых я ходатайствовал. Об одном, Ник. Ефим. Чечулине, писал даже Петровскому, но это оказалось бесплодное недоразумение. Ко мне пришла мать Чечулина и просила дать ей в Харьков письмо. Ей в Ч.К. сказали, что дело ее сына «отослано в Харьков». По ее словам, сын обвиняется в контрреволюции и в том, будто участвовал в к‹онтр›разведке. Есть свидетельство 20 челов‹ек›, опровергающее это. На меня спокойный рассказ матери произвел впечатление истины. Я и тогда боялся, что уже поздно. Петровскому я написал, что не мог отказать этой бедной матери, вспомнив наших матерей (Петровский тоже в царское время был в ссылке), которые в наше время так же страдали об нас. Но судьба наших матерей была далека от того, что пришлось испытать этой страдалице. И может быть еще – по ошибке!
Этому нет оправдания.
За ним следует, хотя не по порядку списка, Григ. Вас. Дьяконенко. Ко мне приходила сестра. Он арестован 27 июля. Служил в милиции Васильцовской волости. Получил распоряжение арестовать некоего Волка, повстанца или бандита. Волк был сильно вооружен, и Дьяконенко арестовать его не мог (с другими случалось то же). Это пахло саботажем, и Дьяконенко скрылся. Тогда арестовали старика отца, как заложника. При обыске, который почему-то производил сам Иванов, захватили литературу.
– Брат любил читать, – прибавила рассказчица, – и у него было много всякой литературы, но они взяли только одного рода, выходившую при Центр‹альной› раде, которая резче оттеняла его контрреволюционность…
Ни защиты, ни суда, ни выяснения… В списке значится Дьяконенко Григорий Вас, 20 лет от роду, занятие письмоводство. Старший милиционер. Участник банды Волка (не мог арестовать – и участник банды), злостный дезертир. Нет, – наверное, «ошибка». А я успокаивал сестру, считая, что жизнь ее брата во всяком случае вне опасности!
Кравченко Степан Никифорович. В списке значится, что служил письмоводителем у пристава, после урядником, выдавая при Деникине коммунистов, и служил в контрразведке. Ранее обвинения против него ставились определеннее: по его указаниям (будто бы по его доносу) расстреляли 6 человек в Рыбцах. По словам жены и матери, он в к‹онтр›разведке не служил, а служил в продов‹ольственном› комитете. Но жил действит‹ельно› в Рыбцах. По словам матери, все, живущие в том же доме в городе, показывают в его пользу, «но селяне з молодежи злобятся». Все это указывает, пожалуй, что бывший урядник действительно при деникинцах «постарался» в Рыбцах, и 6 человек из-за него были расстреляны. По этому делу были арестованы и другие лица, но потом выпущены.
Диденко Тимофей Павлович. Ко мне приходил отец, старик почталион, всю жизнь прослуживший на неблагодарной почтовой службе. Сыну дал некоторое образование. При деникинской власти был мобилизован. В Майкопе взят большевиками в плен (больной). Выздоровел. Поступил на службу при советской власти и, получив отпуск, приехал повидать семью. Здесь – какой-нибудь подлый донос!.. 8 или 9 июня арестовали, и при нашем составе Ч.К. это решило его участь. Амнистия, данная советской властью на юге, даже советская служба – на нашей территории не имеют силы. До сих пор мне видится фигура старого почтальона… В списке расстрелянных о Диденко сказано: «Диденко Тимофей Павлович, 23 года, бывший офицер старой армии (это, вероятно, и решило дело). Будучи мобилизован в Красной Армии, при наступлении деникинских банд остался с целью (?) в плену. При наступлении красных повстанцев на гор. Полтаву 4 окт. 1919 года командовал возле Корпусного сада учебной командой, расстреливал красных повстанцев»…
4-го октября было известно только, что на город идут повстанцы грабители, и потом сов‹етской› власти пришлось укрощать этих грабителей. Что они «красные», это так же мало было ясно, как теперь трудно определить политич‹ескую› окраску повстанчества. Да и был ли самый факт этого командования, – это при отсутствии суда и защиты – далеко не ясно.
Несчастная телеграфистка Стеценко, по поводу которой мы с Праск‹овьей› Семеновной ходили к Порайко, попала в тот же список. Есть здесь еще Мария Макс. Шолковая, девушка 20 лет, о которой сказано, что она «была разведчицей банды Беленького, выполнявшая задачи в Полтаве», и Яровой (Вас. Демьянович), «активный участник, организатор дубчаковского восстания». Дело последнего относится к прошлому году и покрыто амнистией. Но на сей случай прибавлено еще обвинение: «агитировал среди красноармейцев с целью свержения сов‹етской› власти в 1920 году».
И все эти казни – в административном порядке!
24 авг‹уста› н/с
Вчера в конверте Горнфельда пришел No издающегося в Петрограде «Вестника Литературы» с заметкой Горнфельда «Памяти Ф. Д. Крюкова»
. Итак, еще одна потеря литературы. Умер еще в феврале от сыпного тифа в одной из станиц Кубанской области. Это известие больно отозвалось в моей душе: мне жаль не только писателя, но и чрезвычайно симпатичного человека. Кажется, первое его печатное произведение читал и принял я[81 - «Неверно. Горнфельд говорит, что он печатался в „Сев‹ерном› В‹естник›е“». – Примеч. В. Г. Короленко.]. Это были путевые очерки по Дону. Он жил тогда в Орле, был учителем гимназии. Очерки были так колоритны, что я не только принял их, но и написал автору, в уверенности, что он будет писать дальше. Он ответил, что он о литературе не мечтает, а просто ему захотелось изложить впечатления поездки по родному Дону. Вскоре, однако, стал присылать другие очерки. Дон приобрел в нем своего изобразителя; другие авторы принимали его манеру. Потом он сблизился с «Русск‹им› Богатством» и вошел в наш редакц‹ионный› кружок. Это был человек своеобразный, с казачьим колоритом. В первой, кажется, думе он был депутатом, но ораторским талантом не выдавался. Хотя, как пишет Горнфельд, «с ним считались». После 2-й революции в нем заговорил казак с казачьими традициями, и кто-то из редакции (кажется, Пешехонов) мне писал, что Крюков живет в своей станице и «очень поправел».
В том же номере «Вестника Литерат‹уры›» (№ 6, 1918) я прочитал о смерти Ивана Шмелева
. Фигура в литературе тоже заметная, и тоже первые произведения присылал, кажется, мне. Первые рукописи показались мне бледны и слабы, хотя литературны. В 1909-м прислал рассказ «Под небом», и у меня по поводу этого рассказа отмечено: «автор сделал большие успехи: слог свежий, описания живы». Из недостатков у меня отмечено безвкусное сочетание модернизма с былинным складом. По этому поводу я вступал с автором в обстоят‹ельную› переписку. Над рассказом он еще поработал, и он появился у нас. Вскоре автор приобрел известность, довольно заслуженную, и быстро пошел вперед. Одна рецензия, кажется, Якубовича или Горнфельда (даже одно место рецензии) его сильно обидело и, хотя он был у нас на четверге, но наши отношения по журналу не наладились, о чем я жалел. В нем было что-то суховатое и угловатое. Мне он показался человеком слишком самолюбивым.
29 авг‹уста› н/с