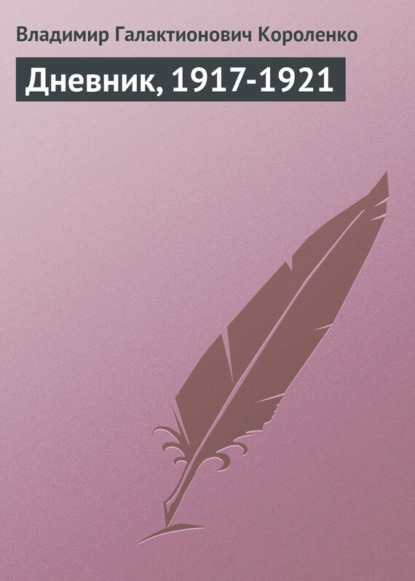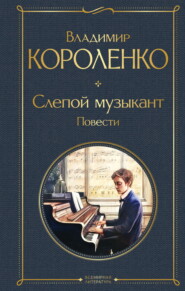По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник, 1917-1921
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собираюсь написать статью об этом предмете. Мои сердечные приступы ослабевают, что пока видно по этому дневнику. Недавно не мог бы написать вот этого за один присест, не почувствовав стеснения в груди. В субботу появилась моя статейка в «Полт‹авском› дне»
. Всю ее я написал с этой болью в груди, порой совершенно не дающей работать. Но все-таки написал. И это улучшение.
1 ноября
Вчера я написал статью «Опять цензура» и отдал ее одновременно в «Вестник обл‹астного› комитета» и в «Полт‹авский› день». В «Вестнике» статья появилась. «День» вышел в виде белого листа с надписью поперек: «Ред‹акция› „Полтавского дня“ протестует против воскрешения предварительной политической цензуры». Оказывается, ночью явился член «совета революции» Городецкий (полуграмотный портной-закройщик) с каким-то студентом и потребовали предъявить им оттиск газеты. Когда им дали – Городецкий зачеркнул (по указанию какого-то наборщика) известие о постановлении центрального комитета соц‹иалистов›-рев‹олюционеров› – за временное правительство. В это время студент указал мою статью. «Смотрите: статья Короленко». Городецкий посмотрел и говорит:
– Ну, что ж! Вы думаете, у меня дрогнет рука? – И зачеркнул статью.
Костя был в заседании совета, когда сей новоявленный цензор пришел с докладом об этом. Здесь он все-таки немного устыдился и наврал:
– Я хотел пропустить статью многоуважаемого писателя. Но редакция заявила, что она напечатает одну эту статью на белом листе… Тогда я…
И он решительным взмахом показал, что он зачеркивает все. «Совет» постановил закрыть газету и реквизировать типографию. А правительственный комиссар (вернее, помощник. Комиссар Левицкий сразу сбежал) Николаев все еще не вырешил отношения своей партии c‹оциалистов›-р‹еволюционеров› к временному правительству: за временное правительство она или против. В это время большевики привезли ночью отряд сапер, настроенных большевистски. С отрядом пришли (вернее – солдаты их привезли) несколько юных и, конечно, покорных офицеров.
Если бы здесь было 3–4 решительных представителя власти, стоило бы только сказать слово – и все кончилось бы мирно. Но все охвачено каким-то параличом, и большевизм расползается, как пятно на протечной бумаге. Полтава пассивно отдается во власть самозваных диктаторов.
Интересно: мне сообщили, что в совете можно говорить все что угодно. Не советовали только упоминать слово «родина». Большевики уже так нашколили эту темную массу на «интернациональный» лад, что слово «родина» действует на нее, как красное сукно на быков.
2 ноября
Сапер вызвали из Ромодана, как говорят обманом: сообщили, что Полтаву грабят и бесчинствуют казаки. Здесь их встретили с музыкой и дали несколько пудов колбасы. У военного начальства нет смелости призвать к порядку эту массу (кажется, 1,5 тысячи) прибывших без приказа. Впрочем, говорят, большевики тоже еще не вполне уверены и большевиками себя не называют. Расчет на то, что саперы не захотят после Полтавы, где их ублажают, вернуться в Ромодан (или Миргород?) и что в этой мутной воде можно вызвать какую-нибудь провокационную неожиданность.
Есть очень сомнительные личности среди этих воротил.
4-XI-17
Порхает с утра первый снег. Осень долго щадила бедных людей. Теперь насупилась, пошли несколько дней дожди, постояла слякоть. Теперь среди моросившего с утра дождя запорхали белые хлопья…
Приехала Маруся Лошкарева
, возвращаясь из Джанхота в Москву. До Москвы теперь не добраться. Трое суток не спала. Ехала во втором классе ужасно. В Харькове трудно было попасть в вагон. Села в третий класс с солдатами. Рассказывает о «товарищах» солдатах с удовольствием. Прежде всего помогли отделаться от какого-то жел‹езно›дорожного контролера, который захотел обревизовать ее чемоданчик. – Может, провизия? – Там действительно была провизия, которую Маруся везет в голодную Москву. Провизия в небольшом ручном чемоданчике! Теперь это служит отличным поводом для придирок и для взяток.
Солдаты приняли участие. – Дайте ему. – Маруся дает рубль.
– Как вы можете предлагать мне?..
– Дайте носильщику, – советует один солдат, – он передаст. – И тут же солдаты берут вещи без осмотра и несут в вагон. Она дает еще 3 р., и дело кончается.
Те же солдаты помогли ей в Полтаве вынести вещи и усадили ее на извозчика. Она вспоминает об этой части пути с удовольствием. На ней была «буржуазная шляпка» и во всю дорогу в вагоне, битком набитом солдатами, – ни одной грубости…
А в это же время я получил письмо от железнод‹орожного› служащего из Бендер: каждый день, отправляясь на службу, он прощается с семьей, как на смерть. Насилия и грабежи со стороны… опять-таки солдат. Близ станции – виноградники. При остановке поездов солдаты кидались туда и для скорости рвали виноград с плетьми! Автор письма пишет с отчаянием, что же ему думать о такой «свободе»?
Это – анархия. Общественных задерживательных центров нет. Где хорошие люди солдаты – они защитят от притеснения железнодорожника, где плохие, там никто их не удержит от насилий над теми же железнодорожниками, честно исполняющими свой долг. Общество распадается на элементы без обществ‹енной› связи.
Я написал статью «Прежде и теперь»
, где по возможности с усмешкой говорю о цензоре Городецком и полт‹авской› цензуре. Она пока не пошла: «Вестником» овладели украинцы и… при «Вестнике» «тышком-нышком», тайно от Кости, разослали партийное воззвание с восхвалением своей партии и в ущерб другим. Костя узнал об этом уже после того, как эта гадость совершилась («Вестник» издается на средства офиц‹иального› учреждения). После этого мы решили взять мою статью. Солидарность с этими господами невозможна. Сделал это Андриевский при благосклонном участии офиц‹иального› редактора Щербакивського. Я как-то написал статью «Побольше честности!»
. Да, прежде всего недостает простой элементарно гражданской честности. И это определяет многое в нашей революции…
6 ноября
Итак, я начал с мокрого снега утром третьего дня и отвлекся.
Я хотел описать одну встречу.
Пошел по слякоти прогуляться в гор‹одской› сад. Там стоит здание бывшего летнего театра, обращенного в цейхгауз. У здания на часах солдатик. Стоит на часах – это выражение теперь не подходит. Как-то недели 3 назад я подошел к солдату, сидевшему около этого же здания на каких-то досках. Невдалеке в углу стояло ружье. Оказалось – часовой. Поставили его в 12 ч. ночи. Я шел в 12 ч. дня. Его еще не сменили. Забыли, видно. Устал, голоден. Просил проходящего солдатика напомнить, но все никого нет… Я гулял в саду. Когда шел назад, солдат лежал на траве и, по-видимому, спал.
Я заглянул в лицо. Тот же.
Теперь часовой стоит в будочке, у ворот. Эта будочка была забита, но дверь выломана. Солдат стоит в дверях, издали оглядывая порученное его бдит‹ельному› надзору здание. Усталое, землистое лицо, потухший печальный взгляд. Выражение доброе, располагающее. Ружье стоит в углу у стенки.
– Можно постоять с вами? (Дождь и снег пошли сильнее.)
– Можно. – Он сторонится. Разговариваем…
– Откуда?
– Уроженец Полтавщины, такого-то уезда. А жил у Болгарии… С отцом вышел 12-ти лет… Сначала жили у Румынии, Тульча-город. Потом подались у Констанцу, а потом стали жить под Варной. Подошла война. Пошел на службу… Болгары три раза требовали в Комиссию… Раз позвали. Мы говорим: мы русские подданные. Вам служить не будем. – А почему живете? – По пашпорту… – В другой раз позвали, уже с сердцем говорят: должны служить. Возьмем. – Воля ваша, хошь возьмите, хошь нет. А служить вам не будем. – Ну потом поехал с батькой к консулу. Сначала не хотел отправить. Пашпорт просроченный. Ну, потом дал бумагу. Я и пришел сюда. Так тут четвертый год, в окопах был. Батько, жена, дети, все – там.
В голосе много грусти. В Тульче немного знал «русского доктора»
. Это нас сближает. Я задаю вопрос:
– Не жалеете, что вернулись?
– А как же, когда на службу. Там тоже воевать пришлось бы.
– Так там близко от своих. В побывку бы можно. Может, там и лучше.
– Конечно, лучше.
Он задумывается и говорит:
– Как расскажешь тут, как они живут, так все говорят: куда нам!
Меня теперь очень интересует вопрос: осталось ли в сердце русского простого человека понятие об отечестве, или большевистская проповедь и война успела искоренить его без остатка. Да и была ли она, или то, что мы считали прежде любовью к отечеству, была простая инерция подчинения начальству.
– Так в чем же дело? – продолжаю я. – Почему вернулись?
Его печальные глаза как-то углубляются. Он смотрит молча на обнаженные деревья, на мокрый снег, на грязное дощатое здание цейхгауза и потом говорит:
– Дядки тут у меня. У одного пять сынов на позициях. У другого три. Мне братаны… И так вышло бы, что я против их ишол бы штык у штык!..
Вот оно, думаю я. «Отечество» для него – это отчина… Братья отца, его братаны… Недоразвитое еще понятие из родового быта. Но, оказывается, я ошибся. Едва я подумал это, как рядом со мной раздался опять его голос:
– Хошь бы и не було братанiв… Как же пойдешь против своих. Хошь и давно на чужой стороне, а свои все-таки свои… Рука не здымется… Так я… четвертый год…