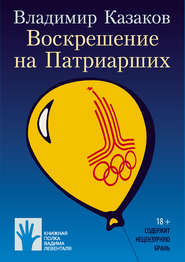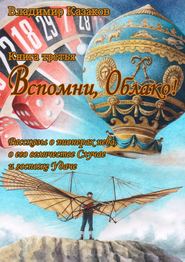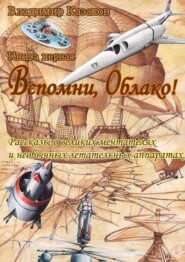По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вспомни, Облако! Книга вторая. Рассказы о загадках и тайнах пятого океана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Анри Каонд в 1903 году закончил военную школу в Бухаресте. Тяга к знаниям увела его во Францию, где он учился в Льежском университете, в Институте электроники и в Высшей школе аэронавтики. Наставником молодого инженера был Густав Эйфель, создатель знаменитой парижской башни. Именно при его деятельном участии Анри Коанд построил необычный аэроплан и испытал его крылья, фюзеляж, узлы крепления на специально созданном для этого подвижном аэродинамическом стенде, движущемся на прицепе за паровозом.
«Как же полетит этот безвинтовой аппарат?» – удивлялись посетители и участники выставки.
Двадцатичетырехлетний авиаконструктор терпеливо объяснял. Да, у его аппарата нет винта. Вместо него в носовой части усеченный металлический конус – турбина. Воздух всасывается в конус центробежным компрессором, сжимается и попадает в камеру сгорания, где в него впрыскивается топливо. Через два сопла по бокам фюзеляжа сжатый газ вырывается наружу и толкает аппарат вперед. Движитель развивает тягу около 220 килограммов, что вполне достаточно для взлета машины весом около полутонны.
– И вы считаете, что она оторвется от земли?
– Увидите сами, – обещал конструктор.
Слово Анри Коанд сдержал. Первый полет реактивного самолета состоялся на аэродроме Иси де Мулино под Парижем в декабре 1910 года.
Анри Коанд внимательно осмотрел аппарат и лег в желоб фюзеляжа. Затрещал мотор, выбросив из сопел языки пламени.
Крылатая машина не двигалась.
Коанд смотрел на пламя, вырывающееся из реактивных сопел. Еще раньше, при испытаниях, страхуясь от пожара, конструктор прикрепил к фюзеляжу металлические щитки, отбрасывающие языки пламени в сторону. Щитки работали нормально.
Конструктор прибавил мощность мотору, и аппарат двинулся с места, аэроплан медленно разбегался, а Коанд, выдерживая направление взлета, не забывал посматривать на выхлопное пламя. И, о проклятье! – при увеличении скорости разбега щитки не отражали пламя от фюзеляжа, а, наоборот, присасывали огонь к фанерным бокам!
Возможность пожара отвлекла Коанда от управления машиной. На какое-то время он перестал смотреть вперед. А взглянув… увидел перед собой городскую стену. Конструктор рванул рычаг управления на себя. Аэроплан оторвался от земли, перевалил через стену, пролетел немного и, не имея достаточной скорости, опустил нос. Земля его встретила жестко. Коанд отделался ушибами и царапинами.
Когда его вытащили из-под обломков и убедились, что серьезных травм нет, Густав Эйфель поздравил своего ученика:
– Молодой человек, вы опередили свою эпоху на тридцать, а то и на все пятьдесят лет!
Во время поздравлений Анри Коанд улыбался, отвечал на приветствия, а одна мысль не покидала его: «Почему во время разбега языки пламени из сопел не отражались, а прилипали к фюзеляжу?»
Позже, с помощью ученых, он разобрался в этом и, самостоятельно проведя опыты, установил, что, искусно подобрав форму обтекаемой газом или жидкостью поверхности, можно изменять направление струи и даже поворачивать ее в обратную сторону. Что давление в струе ниже атмосферного, а это значит – на обтекаемой поверхности создается сила, способная поднимать аппарат без всяких движущихся частей.
Это был второй «эффект», открытый Коандом на аэродроме Иси де Мулино.
Сначала аэродинамики восприняли открытие скептически. Немецкие ученые, изучив «эффект Коанда» в своих лабораториях, пришли к следующему выводу: «…эксперименты Коанда не воспроизводятся и потому не представляют интереса».
Прошло много лет, пока была раскрыта тайна этого «эффекта». Он не удавался на примитивных моделях. Возникал только при строго определенном соотношении размера щели и диаметра сопла. Огромное влияние оказывали поверхность и форма поверхности.
Сам Анри Коанд сделал немало изобретений, использовав открытый им эффект. Например, в 1938 году он запатентовал «струйный зонт». Это – крыло самолета, свернутое в кольцо. Через несколько отверстий в верхней части с большой скоростью вытекают газовые струи, создавая пониженное давление под зонтом, а значит – подъемную силу, направленную вверх.
«струйный зонт» Анри Коанда.
Сейчас «эффект Коанда» используется при создании многих движущихся аппаратов. Благодаря ему повышается тяга реактивных двигателей и движителей современных судов, он может быть применен для торможения самолетов при посадке, для движения их по земле задним ходом, для глушения шума реактивных двигателей.
Используя упомянутый «эффект», коллектив Генерального конструктора знаменитых «Анов» Олега Константиновича Антонова создал грузовой самолет Ан-72 со специальными реактивными двигателями. У самолета очень короткий разбег и пробег, крутая траектория набора высоты и снижения, что достигается многими усовершенствованиями механизации крыла и тем, что выхлопные газы из двигателя, проходя над поверхностью крыла, создают дополнительную двигательную силу. Это – «эффект Коанда» в действии…
Первая жертва русской авиации
В лазури голубой заоблачные страны
Над бедною землей твой сильный дух искал,И вверх направил ты полет аэроплана
И с гордой высоты ты новой жертвой пал…
Н. А. Морозов, 1910 год
Военно-морской офицер в безукоризненно сшитом мундире, – под темно-русой шевелюрой резко очерченные брови полукругло обрамляют голубые глаза, – сидел перед первым русским летчиком Михаилом Ефимовым.
– Понимаете ли, Михаил Никифорович, трудно приходится нам здесь во Франции. Моя задача – купить у здешних фирм одиннадцать аэропланов. Обучить полетам семь прибывших со мной офицеров и еще семь нижних чинов из солдат и матросов подготовить к работе авиамеханиками. – Говорил он торопливо, плохо скрывая волнение. – Итоги пока плачевны. Теряем время…
– Но, слава богу, что хоть наши российские зашевелились, – прервав гостя, улыбнулся Ефимов. – Сколько же отвалила казна на ваши приобретения?
– Специальных ассигнований на авиацию пока нет. По предложению великого князя Александра Михайловича используются деньги, оставшиеся от пожертвований на восстановление погибшего под Цусимой и в Порт-Артуре русского флота.
– Только на крохи от пожертвования? Князь – близкий родственник царя, мог бы похлопотать и о больших суммах для своего нового ведомства. – Ефимов недоуменно пожал широкими плечами. – Не понимаю!
Гость безнадежно махнул рукой:
– Сейчас это пустой разговор, Михаил Никифорович… Пресса пока нас не поддерживает. Не потерять бы зря деньги, отпущенные на первые аэропланы. Нам с премилыми улыбками подсовывают старье. Верчусь как белка в колесе! Сам заключаю контракты с фирмами на изготовление аэропланов, двигателей, запасных частей. Смотрю в оба, чтобы не ввернули негодный. Вчера потребовал запустить один из запасных моторов – день бились, так он и не ожил. Кстати, вы, единственный знаток из русских, что бы посоветовали взять в первую очередь?
– Думаю, будущее за монопланами… «Райты» и аппараты Сантос-Дюмона слишком громоздки, сложны в управлении. Мне нравится «Блерио». Особенно хороша последняя модель «11-бис».
– Учту. Это задание я выполню. А вот второе…
– По обучению?
– Именно, Михаил Никифорович! Мои коллеги ропщут. Нас обучают пилотажу медленно и плохо. За три месяца инструкторы не показали элементарных эволюций в воздухе! Учебные аэропланы старые, ломаются, а за каждую поломку должны платить обучающиеся. Особенно плачевно на курсах Блерио… Понимаете ситуацию, в которую мы попали?
– Это мне знакомо.
– Уверен, что вы кровно заинтересованы в ускоренной подготовке инструкторов для воздушного флота России.
Русский инженер украинского происхождения Лев Макарович Мациевич и его аэропланы.
– Да, но чем могу помочь? Говорите… Я сам увяз в хитром контракте, кабальном. Подряжался учить спортсменов-авиаторов, а вынужден готовить пилотов для армии. Для французской армии, а как бы хотелось для русской!
Голубые глаза офицера благодарно засветились. Он приподнялся с кресла, одернул мундир и, вытянув руки по швам, произнес:
– Михаил Никифорович, не откажите в любезности, возьмите на себя труд научить полетам двух первых русских офицеров – меня и подполковника Ульянина.
– Охотно, Лев Макарович, но…
– Договоренность с хозяевами Мурмелонской школы беру на себя! В конце концов, здесь все решают деньги, и мы основательно урежем свой личный бюджет…
Этот разговор произошел в парижском отеле «Брабант», который на заре авиации был своеобразной штаб-квартирой русских, занимающихся во Франции авиационными делами.
Лучший инструктор Мурмелонской летной школы, работающий там по договору, обрел первых русских учеников, талантливых, живущих благородной мыслью о скорейшем создании российского воздушного флота и делавших для этого немало.
Лев Макарович Мациевич – способный инженер, выпускник Харьковского технологического института и Петербургской Морской академии, не только был представителем родины по закупке аэропланов, но, прекрасно понимая насущную необходимость создания отечественной авиационной промышленности и кадров для нее, сам учился конструировать крылатые машины и летать на них, заранее готовил программы для будущих летных школ России.
Морской офицер, он и думал в первую очередь о море. За короткий срок разработал свой тип летательного аппарата, способного подниматься с палубы корабля и садиться на нее. Мациевич изобрел и оригинальное приспособление, позволявшее авиатору спастись в случае аварии на воде.