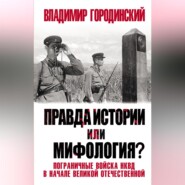По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда истории или мифология? Пограничные войска НКВД в начале Великой Отечественной
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К слову сказать, прямых и косвенных фактов, подтверждающих наличие подобных планов и у руководства НКВД СССР, удалось найти немало, о чем более подробно будет сказано в одной из очередных глав книги.
Все работы пограничных историков пронизывает, на мой взгляд, также ошибочная версия о том, что пограничные войска НКВД СССР принимали активное участие в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками от первого до последнего дня войны. Но подобная трактовка событий, мягко говоря, далека от истины.
Само название «пограничные полки», «пограничные комендатуры» и «пограничные батальоны» без учёта того, кому они были непосредственно подчинены по службе, на том или ином этапе войны, не может свидетельствовать об их принадлежности к пограничным войскам. Думается, нет надобности доказывать тот очевидный факт, что к пограничным войскам следует относить лишь те части, которые в тот период выполняли задачи по охране государственной границы или хотя бы были подчинены Главному управлению пограничных войск НКВД СССР. Если исходить из этих позиций, то можно утверждать, что лишь в период с 22 июня 1941 года и по конец апреля 1942 года части пограничных войск участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе войск по охране тыла Действующей армии.
Затем эта функция была возложена на внутренние войска, а еще через год – на специальные войска НКВД по охране тыла Действующей Красной армии. Именно в составе этих войск оставшаяся незначительная часть пограничников участвовала в боевых действиях с фашистскими захватчиками до самого конца войны. Но к Главному управлению пограничных войск НКВД они уже не имели никакого отношения. К этому следует добавить, что на момент передачи пограничных частей, охранявших тыл Действующей армии, в состав внутренних войск, число кадровых пограничников в них не превышало и 35%. Поэтому, утверждение о том, что пограничные войска НКВД с первого до последнего дня участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, на мой взгляд, в корне неверно.
Общее же представление о подчинённости пограничных войск в годы войны можно получить, ознакомившись с Таблицей №1.
Таблица №1.
Из приведённой таблицы следует, что Главное управление пограничных войск НКВД СССР полноценно руководило войсками по охране тыла ДКА с 12 по 27 июня 1941 года и с 15 декабря 1941 года по 27 апреля 1942 года. То есть, всего лишь четыре месяца.
Всё выше сказанное, надеюсь, убедительно свидетельствует о том, что общая историческая концепция участия пограничных войск в Великой Отечественной войне на сегодняшний день страдает серьёзными изъянами, неточностями и досадными ошибками. В этих условиях как-то язык не поворачивается говорить об объективности и глубоко научном подходе современных исследователей к данной проблеме.
III
Главная причина появления этих и ряда других ошибок в современных исторических исследованиях об участии пограничных войск в Великой Отечественной войне, на мой взгляд, состоит в том, что источниковая база абсолютного большинства из них, очень бедна и однообразна, а в ряде случаев сильно искажена. Встречаются даже примеры явной фальсификации в документах сути произошедших событий в те далёкие годы. В ранее названных мною исторических работах, практически полностью отсутствуют такие виды документов, как предвоенные приказы, директивы и указания НКВД СССР и Главного управления пограничных войск, приказы начальников пограничных округов и отрядов, схемы мобилизационного развёртывания пограничных войск и округов на случай войны с Германией и её союзниками, карты районов боевых действий пограничных частей, различные аналитические справки и многое другое. Исследователи почему-то стараются вообще не замечать существование трофейных немецких документов, переведённых на русский язык и уже давно введённых в научный оборот.
К этому следует добавить, что за все послевоенные годы ни один из тогдашних руководителей Пограничных войск Советского Союза, а также оставшихся в живых начальников пограничных округов и их заместителей, не оставили для потомков своих воспоминаний об участии пограничников в сражениях Великой Отечественной войны. Это на сегодняшний день, наверное, единственный подобный пример в системе всех Вооружённых Сил и СССР и России.
Следует особо отметить, что при написании своих книг и диссертационных исследований, историки чаще всего обращаются к фондам Центрального архива ФСБ России, Центрального архива пограничной службы, Центрального пограничного музея ФСБ России, а также к сборнику документов и материалов «Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1941—1945». Фонды же Российского государственного военного архива (РГВА) и Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО), где хранится огромное число не исследованных документов по всем войскам НКВД, на мой взгляд, используются явно недостаточно.
Говоря о содержании такого фундаментального научного труда, как «Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1941—1945. Сборник документов и материалов» в двух томах, к которому чаще всего обращаются учёные при освещении боевой деятельности советских пограничников в годы войны, следует отметить, что только чуть более 15% из общего числа опубликованных там документов, охватывающих период с 22.06.1941 г. по 01.05.1942 г., можно отнести к реальным архивным документам. И то, абсолютное большинство из них – это фрагменты письменных донесений из округов, записей из журнала боевых действий, которые с первых минут войны и до 8 июля 1941 года вели оперативные дежурные Главного управления пограничных войск НКВД СССР, а также выдержки из докладов политорганов разного уровня о политико-моральном состоянии личного состава пограничных частей.
Всё остальное – это воспоминания участников первых боёв на границе, описание боевых действий частей и подразделений западных округов, составленные к тому же по истечении довольно-таки длительного времени после произошедших событий. Встречаются среди них и такие, которые были подготовлены в 1942—1945 гг. и даже в шестидесятые годы прошлого столетия. Таковых насчитывается около 80%. Как мне представляется, ценность подобных документов весьма и весьма сомнительна. Несмотря на это, встречаются ещё исторические работы, в которых источниковая база на пятьдесят и более процентов состоит именно из ссылок на этот научный труд.
Как и в прежние годы, значительную долю первоисточников составляет историческая литература советского периода. Невольно складывается впечатление, что для абсолютного числа учёных Пограничной службы по-прежнему остаются недоступными архивы как ФСБ РФ, так и других ведомств России. Хотя нельзя исключать и того, что многие из них просто боятся в своих исследованиях опираться на рассекреченные архивные документы того периода, так как выводы, сделанные на их основе, могут оказаться прямо противоположными тем, которые за многие десятилетия сформировались в пограничной историографии.
По всей видимости, именно по этой причине в исторической литературе очень много ссылок на работы доктора военных наук Г.П.Сечкина «Советские пограничные войска в Великой Отечественной войны войне 1941—1945 гг. и возможные их действия в современных операциях» и «Граница и война. Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа 1941—1945». Ни минуты не сомневаясь в огромном научном авторитете этого учёного, признавая его огромный вклад в развитие пограничной историографии в 70-е – 80-е годы прошлого столетия, тем не менее, нельзя не отметить, что он всё-таки был человеком своей эпохи – сложной, противоречивой и до предела заидеологизированной. Поэтому, если бы он и захотел более откровенно и правдиво отразить в своих работах этот период в истории пограничных войск, ему бы этого никто не позволил.
Подобное положение дел в пограничной историографии, на мой взгляд, стало возможным в силу как объективных, так и субъективных причин. Как известно, рано утром 22 июня 1941 года, атакованные превосходящими силами немецких войск, пограничники на большинстве направлений сделали всё, что могли, чтобы задержать врага до подхода соединений и частей Красной армии. В этих боях они понесли тяжелейшие потери. Особенно это касается личного состава пограничных застав и комендатур. За этим последовали тяжелые бои при выходе из окружения в Прибалтике, под Минском и Белостоком, под Уманью и Киевом, Смоленском и Вязьмой. Сегодня с высокой долей уверенности можно утверждать, что к концу октября 1941 года войска Прибалтийского, Белорусского и Украинского пограничных округов, потеряв в людях от 70 до 80 процентов своего предвоенного состава, как боевые единицы, по сути, прекратили свое существование.
Другими словами, абсолютное большинство носителей ценнейшей объективной информации об участии пограничников в боях с фашистскими захватчиками в первые 3—4, самые тяжелые, месяца войны погибли или оказались в плену. К этому следует добавить, что почти все документы, в которых отражался ход боевых действий с началом войны, переписка между штабами и политорганами различного уровня, а также архивные документы многих пограничных отрядов и других частей, при выходе из окружения были либо уничтожены, либо утеряны, либо были захвачены немцами. Длительный же период, в течение которого Главное управление пограничных войск НКВД СССР, по сути, было отстранено от непосредственного руководства пограничными частями, задействованными в охране тыла Действующей армии, не позволил по горячим следам восстановить события первых месяцев войны.
Первая попытка организовать работу по обобщению опыта участия частей и подразделений пограничных войск в боевых действиях с фашистскими захватчиками была предпринята только в сентябре 1941 года. Из ГУПВ НКВД СССР в войска было направлено указание от 12.09.41 г. №19/220261, которое в общих чертах регламентировало эту деятельность[45 - РГВА. Ф.32924. Оп.1. Д.89. Л.76.]. Однако неблагоприятное для Красной армии развитие обстановки на советско-германском фронте не позволило выполнить это указание. Об этом свидетельствует тот факт, что ещё минимум дважды, в октябре 1941 года и в марте 1942 года указания подобного содержания направлялись в управления войск НКВД по охране тыла фронтов.
В последнем таком указании от 26 марта 1942 года за №В/ОП/001714 отмечалось, что «…в связи с тем, что боевые действия пограничных войск НКВД СССР, в частности пограничных застав и комендатур в Отечественной войне представляют ценнейший материал исторического значения, необходимый для изучения опыта боевых действий пограничных войск в целях подготовки и воспитания личного состава, возникает необходимость теперь же документировать эти операции в виде описаний или воспоминаний их участников…»[46 - РГВА. Ф.32925. Оп.1. Д.66. Л.127—128.].
Судя по этому документу, в ГУПВ НКВД СССР даже по состоянию на март 1942 года не имели ещё полного представления о трагических событиях начального периода войны. Поэтому руководство пограничных войск настойчиво пыталось восполнить этот пробел путём подготовки описаний боевых действий частей и подразделений на основе воспоминаний конкретных участников тех событий. От красноармейца до начальника войск пограничного округа. Наверное, в тех тяжелейших условиях на всех фронтах Великой Отечественной войны, это был единственный способ хоть как-то воссоздать реальные события первых месяцев войны, в которых принимали участие пограничники западных округов. Но при таком подходе, как известно, ещё никому не удавалось избежать явно субъективного подхода к оценке конкретных исторических фактов недавнего прошлого.
Так уж устроен человек, что своё личное участие в тех или иных событиях он по истечении определенного времени предпочитает рассматривать не в чёрных, а в розовых тонах. О том, что чаще всего так и происходило на практике, продемонстрирую на нескольких примерах.
В исторической литературе, где освещаются действия военнослужащих Белорусского пограничного округа в начальный период войны, чаще всего цитируются воспоминания генерал-майора в отставке Г.К.Здорного, бывшего на тот момент начальником 86-го (Августовского) пограничного отряда Управления пограничных войск НКВД БССР. До недавнего времени он был, наверное, единственным источником более-менее полной информации о последних часах перед началом войны и первых боях на западной границе в районе так называемого белостокского выступа. К тому же, автор этих воспоминаний в момент начала войны был вместе с группой офицеров ГУПВ, возглавляемой начальником погранвойск НКВД СССР генерал-лейтенантом Г.Г.Соколовым, и поэтому его воспоминания на протяжении многих десятилетий вызывали особый интерес. Вот выдержки из одного его рассказа о тех далеких и трагических событиях нашей истории.
«21 июня – вспоминает Г.К.Здорный, – обобщенные данные, характеризующие подготовку фашистских войск к нападению, я лично докладывал командующему 3-й армии генерал-майору Кузнецову, прибывшему в Августов в штаб стрелкового полка, который находился здесь же и должен был оборонять город… Командующему я также доложил, что моя маневренная группа (резерв отряда) находится в оперативной командировке… в Литовской ССР и просил выделить в мое распоряжение один батальон стрелкового полка для прикрытия подступов к городу вдоль Августовского канала. При этом я… сделал вывод о возможности вторжения фашистских войск на участке отряда. Генерал Кузнецов на эту мою просьбу ответил: «Думаю, что войны не будет, но береженого бог бережет!».
И он приказал присутствующему при моем докладе начальнику гарнизона, командиру стрелкового полка (фамилию не помню) выделить одну роту, усиленную двумя бронемашинами и двумя орудиями батальонной артиллерии (45-мм), для использования по перекрытию шоссейной и железной дорог на Августовском канале в междуозерье. В случае необходимости, использовать батальон полка, который находился в тылу участка 12-й погранзаставы…
Возвратившись в свой штаб около 18 часов 21 июня, я позвонил в город Белосток и доложил о своей встрече с генералом Кузнецовым заместителю начальника погранвойск БССР комбригу Курлыкину. Комбриг Курлыкин, в свою очередь, мне сообщил, что в городе Ломже на участке 87-го погранотряда находится начальник погранвойск СССР генерал-лейтенант Соколов и с ним начальник погранвойск нашего пограничного округа генерал-лейтенант Богданов. Они собираются выехать из города Ломжи ко мне, и что я должен быстрее прибыть на свой левый стык на шоссе Ломжа-Граево…
…О причинах их неожиданного приезда в расположение 86-го Августовского пограничного отряда мне не было известно.
В 2 часа ночи с минутами 22 июня через офицера штаба 5-й комендатуры я получил донесение капитана Янчука о боевом столкновении наших пограничных нарядов с войсковой группой (до взвода) немецких армейских войск, которые нарушили границу на участке 6-й и 7-й застав 2-й комендатуры в местечке Липске. Спустя минут 30 поступило новое донесение о столкновении наших нарядов на участке 11-й заставы 3-й комендатуры у полотна железной дороги Сувалки-Августов…
…Примерно в 3 часа 40 минут к месту моего ожидания подъехали три легковые автомашины с генералами Соколовым и Богдановым и командиром 87-го погранотряда. Тут же на месте я стал докладывать обстановку.
Примерно через 5 минут, находясь у автомашин, мы все услышали нарастающий гул самолетов, а затем увидели большую группу самолетов, приближающуюся со стороны Восточной Пруссии к нашей территории. Мы сели в автомашины и поехали в Граево.
В 4 часа 10 минут мы были уже в Граево в штабе 5-й комендатуры. Я связался по телефону с начальником штаба отряда капитаном Янчуком. От него я узнал, что на участке 1-й и 2-й комендатур прорвались через границу большие колонны танков и моторизованная группа. Все заставы вступили в бой. Город Августов подвергся налету авиации противника. Сильная ружейная и пулеметная стрельба, разрывы снарядов были слышны на подступах к Августову. Связь на этом оборвалась. Пока я говорил по телефону с капитаном Янчуком, началась бомбёжка Граево, а затем артиллерийский обстрел города и вокзала»[47 - http://zhistory.org.ua/pogrzovo.htm].
В этом повествовании у меня лично вызвали сомнения два момента. Прежде всего, просьба начальника погранотряда к командующему армией о выделении подразделений стрелкового полка «для прикрытия подступов к городу вдоль Августовского канала», а не для усиления пограничных застав на угрожаемых направлениях. Ведь, как следует из рассказа Г.К.Здорного, оборона города с началом войны ложилась на плечи стрелкового полка, командир которого к тому же являлся начальником гарнизона. А 86-й погранотряд в соответствии с предвоенными планами выводился в резерв 3-й армии и в оборонительных сражениях не должен был принимать участия.
К этому следует добавить, что в воспоминаниях уважаемого ветерана говорится о том, что в г. Августово накануне войны дислоцировался 132-й стрелковый полк, а на самом деле там располагался 345-й стрелковый полк.
И во-вторых, в последнее время появилась информация о том, что за несколько дней до начала войны в г. Белостоке начальник ГУПВ Г.Г.Соколов провел совещание с участием всех начальников погранотрядов управления пограничных войск НКВД БССР. Поэтому утверждение Г.К.Здорного, что он не был поставлен в известность о причинах их неожиданного приезда, на мой взгляд, весьма сомнительно.
Совсем по-другому запомнились эти дни полковнику в отставке Д.С.Аврамчуку, который с 21-го на 22-е июня 1941 года был оперативным дежурным этого же 86-го пограничного отряда:
Он вспоминает, что «…в 2 часа дня в отряд прибыл начальник Главного Управления погранвойск НКВД СССР генерал-лейтенант Соколов и начальник погранвойск Белорусского округа генерал-лейтенант Богданов. Я доложил Соколову, что за время моего дежурства происшествий не произошло, а начальник отряда и начальник штаба на обеде и попросил разрешения их вызвать. Соколов сказал: «Не надо вызывать, пусть отдыхают, после обеда придут в штаб отряда без вызова».
Соколов спросил меня, где расположены штабные подразделения. Я доложил, что все подразделения разбросаны по городу Августову… Соколов предложил мне «Давайте пойдем в мангруппу, она готовит младших командиров…». По прибытию в мангруппу Соколов и Богданов проверили порядок в казарме и ход занятий. Всё им понравилось… Когда мы вышли из казармы, нас встретил начальник штаба отряда капитан Янчук. Я ушел на дежурство, а они пошли в подразделения… В 4 часа по приказу генерала Соколова весь офицерский состав управления отряда и подразделений собрался в кабинете начальника отряда для совещания. С докладом выступил начальник штаба капитан Янчук. Он сказал, что обстановка на границе тревожная… Когда капитан Янчук закончил доклад, генерал Соколов спросил начальника отряда майора Здорного, что он может добавить и согласен ли с докладом Янчука. Здорный заявил, что нового он ничего не имеет и с докладом Янчука полностью согласен. Обстановка на границе очень тревожная и опасная.
Генерал Соколов в своем выступлении заявил, что вы обстановку на границе сами очень усложняете, никакой войны пока не предвидится, вы просто проявляете трусость и шлете донесения, от которых несет паникой, мы их отправляем в ЦК партии, в Генштаб и правительство. От ЦК партии, правительства и Генштаба получаем замечания по вашим донесениям, поэтому мы приехали к вам и поедем на границу и проверим, какая обстановка на самом деле ночью и днем на заставах.
В 6 часов вечера 21-го июня 1941 года генералы Соколов, Богданов и начальник отряда майор Здорный на легковой машине… выехали на границу на левый фланг погранучастка в м. Граево, где дислоцировалась 5-я комендатура…
…В 2 часа ночи я вышел из дежурной комнаты во двор штаба и заметил, что большая группа немецких самолетов летит в нашу сторону. С границы слышна артиллерийская стрельба. От штаба отряда до границы было всего 4 километра. Я немедленно позвонил на квартиру капитану Янчуку и доложил о происходящей обстановке на границе. Он немедленно прибыл в штаб. Замполит – батальонный комиссар Герасименко находился во второй комендатуре в м. Линске, майор Здорный – в м. Граево. Так началась война…»[48 - [битая ссылка] http://www.statehistory.ru/834/Deystviya-pogranichnikov-21-22-iyunya-1941-goda-/].
Прошу читателей простить меня за столь обширное цитирование воспоминаний участников первых боев на участке 86-го (Августовского) пограничного отряда, но это единственный способ, позволяющий каждому самостоятельно сделать вывод в том, как на самом деле развивались события в те далекие и трагические дни.
Проведя сопоставление воспоминаний обоих участников тех событий, можно сделать вывод о том, что официальная версия последнего мирного дня и первых боев на участке 86-го (Августовского) погранотряда, воссозданная историками на основе воспоминаний генерал-майора в отставке Г.К.Здорного, мягко говоря, во многих случаях не соответствуют действительности. Г.К.Здорный пытается убедить читателей в том, что генералы Г.Г.Соколов и И.А.Богданов вместе с ним в момент начала войны находились на левом стыке его отряда и в штабе их не было. Думается, именно для этого был придуман сюжет о его докладе командующему 3-й Армией об обстановке на границе. Кстати, командир 345-го стрелкового полка 27-й СД полковник в отставке В.К.Садовников этот факт также не подтверждает[49 - http://www.poisk.slo…rticle&artid=46; http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2083.].
Со слов же Д.С.Аврамчука следует, что последние 14 часов перед началом войны начальник ГУПВ НКВД СССР с группой офицеров Главного Управления погранвойск находился на участке 86-го (Августовского) погранотряда. Он посетил маневренную группу и ряд других подразделений, а потом еще провел большое совещание с офицерским составом в штабе отряда. Почему этот факт пограничными историками и Г.К.Здорным излагается по-другому – до сих пор остаётся загадкой. Тем не менее, на этом примере хорошо видно, насколько субъективными, а главное – конъюнктурными, могут быть воспоминания тех или иных участников Великой Отечественной войны.
А вот другой пример. В моем распоряжении оказались два разных документа, которые более-менее подробно отражают события накануне и в первые дни войны на участке 90-го (Владимир-Волынского) отряда Пограничных войск НКВД УССР. Один из них называется «Докладная записка начальника 90-го погранотряда НКВД майора М.С.Бычковского начальнику погранвойск НКВД УССР – начальнику охраны тыла Юго-Западного фронта генерал-майору В. Хоменко о боевых действиях в первые дни войны»[50 - 1941 год. Страна в огне. Историко-документальное издание. —М. 2011. —с.490—494.]. Составлена она была 5 июля 1941 года. Другой документ – это интервью уже генерал-майора М.С.Бычковского, которое он дал двум учёным пограничной службы в далёком 1968 году, но опубликованном в журнале «Пограничник» лишь в июне 2011 года[51 - Пограничник. -2011. -№6.]. Другими словами, оба этих документа принадлежат одному и тому же человеку, хотя их и разделяет 27 лет. Предлагаю читателям самим сделать выводы об объективности послевоенных воспоминаний известного пограничного военачальника.
Для удобства я свел основные положения обоих документов в отдельную таблицу, чтобы читателю было легче проследить трансформацию взглядов и оценок уважаемого ветерана на те далекие и трагические события на участке всего лишь одного пограничного отряда. Более тёмным шрифтом выделены те места в послевоенном интервью М.С.Бычковского, которые, на мой взгляд, в наименьшей степени соответствуют его же докладной записке.
Надеюсь, что читатели обратили внимание на несоответствие многих фактов из послевоенного интервью генерал-майора в отставке М.С.Бычковского их первоначальному варианту, изложенному в его же докладной записке. Это касается, прежде всего, реакции самого М.С.Бычковского, командиров соединений и объединений Красной армии на сообщение перебежчика А. Лискова, а также конкретных действий погранзастав и погранкомендатур в первые часы войны. Если учесть, что о первом документе до 2011 года мало кто вообще знал, то можно себе только представить, насколько искажёнными в исторической литературе оказались события, произошедшие накануне и в первые дни войны на участке 90-го (Владимир-Волынского) пограничного отряда.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ содержания двух документов, отражающих события на участке 90-го (Владимир-Волынского) пограничного отряда накануне и в первые часы Великой Отечественной войны
К большому сожалению, в воспоминаниях некоторых участников войны встречается, я бы сказал, элементарный обман читателей. Я прошу простить меня за столь грубую лексику, но, как говорится, слов из песни не выбросишь. К примеру, генерал-лейтенант А.М.Андреев, занимавший на момент начала войны должность начальника 5-го (Энсонского) пограничного отряда Ленинградского пограничного округа, в своих воспоминаниях утверждает, что «…после трёх часов ночи 22 июня начали поступать донесения с 9-й и 12-й застав о многочисленных нарушениях немецкими самолётами нашей границы…
В 5.00 22 июня сотни немецко-фашистских орудий внезапно обрушили свой огонь на наши пограничные заставы и районы, подготовляемые инженерно-саперными частями округа долговременным укреплениям. Наиболее сильный огонь был сосредоточен по району пограничной заставы, расположенной на высоте северной окраины города Энсо, и штабу пограничного отряда. Несколько снарядов крупного калибра попали в основное здание штаба пограничного отряда. После короткого, но сильного огневого налета противник на широком фронте при поддержке артиллерийско-минометного огня атаковал наши пограничные заставы.
Так как личный состав застав, комендатур и штаба отряда в ночь на 22 июня 1941 года был выведен из застав и занимал основные и запасные позиции, мы в этот час потерь от огня противника не имели, а все его атаки отбили…»[52 - http://militera.lib.ru/memo/russian/andreev_am/01.html].