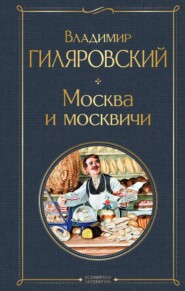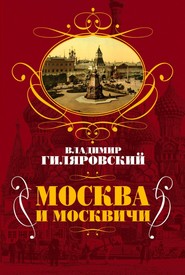По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказы и очерки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.
– Зачем это вы обе?
– Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять… Вот и они выпьют, – указал на меня помощник.
Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.
– И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, – сострил С-ов.
– Ну-ка, отвальную, – начал Л. и налил мне водки.
Выпили, и через пять минут водки не было…
– Ну, господа, теперь в путь! – вставая, сказал Л.
Попрощались. Перецеловались…
– В Москве увидимся! – крикнул из рыдвана Л.
– Увидимся постом! Желаю сотни заработать!
– Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, – как-то печально промычал С-ов.
– До свидания!
– До свидания!
Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.
Дай им бог прокормиться!
БЕГЛЫЙ
Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековечной тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоями, а на скатах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблистали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.
По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.
Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.
В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.
Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.
Всякий звук сам по себе, а дирижер – сама тайга – все эти раздельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.
Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.
И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:
– Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!
И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор.
Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отощав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.
Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится.
Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.
И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть – они сами не помнят себя, очарованные притягательною силой благоухающей вольной тайги.
– Воля! Вот она, воля-то, где! А-ах!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет… А там…
Он вздохнул и задумался.
Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.
– А-ах! Хорошо! – вздохнул он еще раз. – А чего стоило добраться сюда. Да! Даже страшно. Впрочем, чего страшного – пуля, смерть, и только. Страшно там, в этих подземельях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шабаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь…
Он задумался.
– А солнышко-то, солнышко!
Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.
А оттуда сквозь чащу дерев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайками» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.
Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.
Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за верхушки леса.
Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.
Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.
Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.
Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.
Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменил свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.
Чуть заметными, беловатыми полосками побежал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма исчезали в темноте, сверкая по временам мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.
Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.
Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колени, перекрестился и стал есть.
Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.