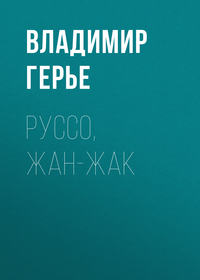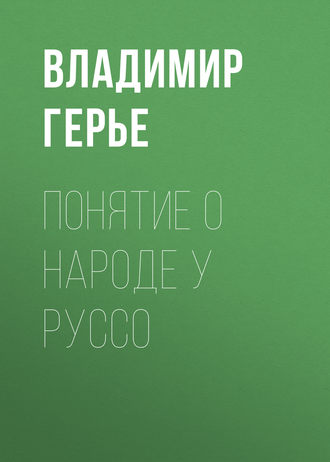
Понятие о народе у Руссо
Так Руссо среди общества, утонченно цивилизованного и развитого, в самый век отвлеченного разума и рассудочного просветления смело бросает перчатку основному принципу этого века. Он проповедует возвращение к природе и к естественному состоянию, обращение от философии и знания к нравственному чувству, прирожденному человеку. Он открыто и решительно отдает преимущество в жизни человека темному слою ощущений перед мыслью и сознанием, посредством которых человек возвышается над животного жизнью. Настоящая роль Руссо в истории культуры заключается в том, что он провозглашает не равноправность только, но преимущество инстинкта пред разумом. Добродетель человека, его нравственность обусловливаются господством инстинктов, этим же обусловливается и счастье человека; и в том и в другом случае инстинкт представляется гораздо более верным руководителем, чем мерцающий свет разума.
Оттого поклонение инстинкту, провозглашение его прав становится исходною точкой для Руссо в сочинениях, направленных к исправлению нравов и общественной жизни. Эманципация инстинкта от условных общественных понятий и правил и идеализация его составляют тайну того очарования, которое имел в свое время скучный дидактический роман Руссо. Относительная правда, которую заключала в себе проповедь инстинкта среди общества, тяготившегося формами своего быта и пресыщенного унаследованными от предков понятиями и предрассудками, – объясняет нам, почему современное Руссо поколение жадно зачитывалось его «Новой Элоизой», обливая ее слезами и благословляя автора, как своего благодетеля.
Особенно плодотворным реформатором явился апостол инстинкта в области воспитания; здесь давно пора было преобразовать старую систему и прервать рутину. Не сокрушать инстинкты человека, проявляющиеся в ребенке, не ломать природу, не противоборствовать ей должно было воспитание, по мысли Руссо, – напротив, его задачей должно быть развитие и усовершенствование инстинктов и способностей, вложенных природой. Ребенок ближе к природе, чем взрослый человек. Он добр и непорочен, «ибо все непорочно, когда выходит из рук всемирного Творца», и потому прежде всего необходимо освободить педагогию от «варварской догмы» первородного греха. Человечество удалилось от состояния природы путем цивилизации: в каждом ребенке природа снова протестует против этого уклонения от нее, снова заявляет о своих нарушенных правах. Все дети, говорит Руссо, ленивы и неохотно учатся; они чувствуют, что учение и размышление удаляют их от естественного состояния, – тайный инстинкт говорит им, что счастье заключается в неведении. Здравая педагогия должна не насиловать этого природного расположения. Она должна как можно позднее и бережнее отрывать ребенка от лона природы; она должна знать, что, как выразился Руссо, «чтение есть бич детства». Здравая педагогия, приноравливая ребенка к искусственному обществу, в котором ему придется жить, должна, по крайней мере по возможности, приблизить воспитанника к состоянию природы, к человеческому идеалу; поэтому воспитание должно сделать из него не дворянина или мещанина, не француза или англичанина, а прежде всего человека.
Заслуги Руссо в педагогии достаточно известны, но они еще более значительны, чем это обыкновенно себе представляют, так как потомки не могут иметь полного понятия о том плачевном состоянии, в котором находилось воспитание детей в XVIII веке. Заслуги Руссо в педагогии должны быть признаны в трех отношениях: нужно, во-первых, иметь в виду все, что им устранено из области воспитания, затем – то, что он туда внес, и наконец – непосредственное, благотворное влияние, которое он имел на матерей и на воспитателей. Для того чтобы оценить заслуги Руссо как реформатора, нужно было бы подробно распространиться о варварстве и рутине старой педагогии, об обычае, господствовавшем во всех классах французского общества, отдавать детей на воспитание по деревням к чужим людям, о жестокости телесных наказаний даже в высшем классе, превышавшей всякое вероятие[36], о механическом, внешнем способе обучения, о многопредметности школьной программы, о раннем вступлении детей в общество салонов, где с ними обращались как с взрослыми, величая – monsieur et madame. – Знакомый с историей педагогии читатель готов будет признать справедливость педагогической аксиомы Руссо: «Поступайте во всем противоположно обычному, и вы, почти всегда, будете поступать правильно».
Чтобы вполне оценить переворот, произведенный Руссо в педагогии, нужно понять смысл его нововведений и его теории. Руссо, можно сказать, открыл детский возраст, первый старался проникнуть в детский мир, и хотя сам он не выяснил внутренней жизни, психического состояния ребенка, в отличие от взрослого, и даже ввел в этот вопрос много ложных представлений, но все-таки, благодаря ему, эта главная задача педагогии стала на первый план. Руссо положил основание новому плодотворному принципу, что в ребенке нужно искать и видеть только ребенка, что педагогию и обучение нужно сообразовать с наклонностями и способностями детского возраста, и не одно только лучшее понимание детской натуры было следствием этого нового отношения к детям: еще более, может быть, значения имела пробудившаяся у взрослых любовь и нежность к ребенку, без которой самая умная педагогическая теория безжизненна и бесплодна. Как и всегда, эта любовь имела благотворные последствия не только для детей, которые были ее предметом, но и для тех, от кого она исходила. Для многих, особенно для женщин, любовь к детям сделалась источником нравственного перерождения, и мы вполне можем верить искренности тех женщин, которые с восторженною благодарностью признавались Руссо, что только ему они обязаны тем, что стали испытывать материнские чувства. Но, признавая все эти заслуги Руссо, не следует, однако, увлекаться идеализацией его педагогической теории; через нее повсюду проходят два ложных начала, которые были, и еще могут быть, причиной многих заблуждений и практических ошибок: во-первых, учение, что в человеческом сердце нет никаких дурных задатков, никаких порочных инстинктов и что, вследствие этого, подобно тому как в людском обществе все зло происходит только от законов, учреждений и правительств, так и в ребенке нет ни одного порока, относительно которого нельзя было бы указать, каким путем он извне прокрался в его чистое сердце. Мы готовы признать, что фантастические представления, которыми Руссо исказил свою теорию о природе ребенка, принесли свою долю относительной пользы: его уверения, что ребенок представляет собой естественное состояние человека и что злоба в ребенке есть только следствие его физической слабости и что все дурные наклонности в детях прививаются к ним только воспитателями и обществом, – чрезвычайно содействовали возбуждению у взрослых той жалости и любви к детям, о которой мы говорили. Так как известная гармония между рассудком и чувством есть удел немногих, то для большинства людей ложная идеализация предмета есть необходимый спутник пробуждающейся любви и симпатии и нередко их источник; – и в этом смысле можно сказать, что ложной идеализацией ребенка у Руссо в значительной степени обусловливались и восторг, и нравственное умиление, с которыми матери и отцы, педагоги-теоретики и гувернеры приветствовали открывшийся пред ними детский мир. При всем этом ложная идеализация ребенка имела, однако, свою оборотную сторону – она послужила источником сентиментальности в педагогии и таким образом породила новую искусственность, аффектацию чувства, взамен рассудочной искусственности, прежде господствовавшей. Другое ложное начало заключалось в неправильном и натянутом противоположении природы и естественного развития – цивилизации и искусственного воспитания, в установлении враждебного антагонизма между природой и цивилизацией, тогда как следовало бы выставить цивилизацию в ее истинном смысле, как плод и результат естественного развития человеческой природы, а враждовать лишь с пороками и предрассудками современного общества.
К каким ложным практическим заключениям привели эти ложные начала в области педагогии – здесь не место рассматривать. Педагогические теории Руссо привлекают здесь наше внимание, насколько они представляют аналогию с его общественными теориями и освещают их. То же самое искусственное противоположение цивилизации природе, побудившее Руссо видеть в ребенке неиспорченное лжемудростью существо, заставило его идеализировать и тот общественный быт, который можно было с большим или меньшим основанием отождествить с естественным состоянием и выставить как отрицание цивилизации. Такое образцовое состояние Руссо отыскал в быте дикарей. И в этом вопросе, так же как в области педагогии, правда и ложь, софизм и нравственная проповедь были тесно связаны у Руссо и сплетены друг с другом. Относясь с особенным интересом к дикарям, Руссо плыл по течению века и потворствовал наклонностям тогдашнего общества, для которого под влиянием современных путешествий и таких популярных сочинений, как «Естественная история» Бюффона, вопрос о быте и нравах дикарей сделался модным вопросом.
С своей стороны Руссо более, чем кто-либо другой, содействовал существенной перемене, происшедшей в XVIII веке в отношениях европейцев к дикарям. Когда европейцы в веке открытий встретились с дикарями Америки и Африки, они, преимущественно под влиянием католического фанатизма, видели в них только неверных и относились к ним, как к животным. Филантропический XVIII век открыл в дикаре человека, но беда была в том, что этот век просветления еще сам не имел верного понятия о человеке. Там, где мы наблюдаем, люди XVIII века рассуждали, и материалы, собранные путешественниками о быте диких народов, служили в то время только поводом к обличительной или нравственно-назидательной риторике. Руссо справедливо упрекнули в том[37], что, когда он говорит о дикарях, читатель недоумевает, каких дикарей он имеет в виду – негров ли Африки, краснокожих Северной Америки или же баснословных троглодитов: для Руссо дикарь вообще – le sauvage – есть отвлеченная категория, общее понятие, которому не соответствует ничего реального. Как мало было у Руссо в этом вопросе настоящего знакомства с предметом и научного отношения к нему, яснее всего обнаруживается из того, что он орангутангов причислял к дикарям. Руссо отвергает решительно всякое родство между обезьяной и человеком на том основании, что обезьяны не могут говорить, особенно же потому, что «эта порода несомненно лишена способности усовершенствования»; и между тем он вступает в полемику с путешественниками, которые отказываются признать орангутангов за людей. Руссо упрекает их в недостатке наблюдательности, в предрассудках и слишком поспешных суждениях и сам высказывает предположение, что орангутанги – дикие люди, порода которых, искони рассеянная по лесам, не имела случая развить ни одной из своих способностей, – одним словом, что орангутанг – настоящий первобытный человек, еще не вышедший из того состояния природы, которое Руссо принимал за исходную точку в своей борьбе против цивилизации[38].
Симпатии Руссо колеблются между этим первобытным состоянием, когда люди живут врозь, не имея семьи, не зная пороков и несчастий, потому что ощущают только самые простые физические потребности, – и между бытом дикарей, которые «уже удалились от первого состояния природы», однако «занимают золотую средину между апатией первобытного состояния и пылкой энергией нашего эгоизма»[39]. Вследствие этого Руссо, несмотря на идиллическое восхваление естественного состояния, восхищается и следующим за ним диким состоянием, называя этот период развития человечества самым счастливым и продолжительным – настоящей молодостью мира. Описывая печальную историю развращения человечества посредством прогресса цивилизации, Руссо с грустью оглядывается назад, на быт дикарей; в его изображениях этого быта рельефнее всего выступают две черты, которыми он наделяет быт диких народов, – счастье и нравственное превосходство над культурным человеком. Руссо спрашивает: «Слыхал ли кто, чтобы дикарь на свободе вздумал жаловаться на жизнь и искал смерти через самоубийство? Это и не может быть иначе, ибо дикарь желает только того, что ему известно; а так как он знает лишь такие предметы, которыми он уже обладает или которые легко может приобрести, то ничто не может сравниться с спокойствием его души и с ограниченностью его разума». – Руссо восстает против смешного заблуждения, будто дикари под влиянием своих страстей постоянно истребляют друг друга; он опровергает это указанием на караибов, тот народ, который наименее удалился от состояния природы и именно поэтому особенно миролюбив в любовной страсти и наименее подвержен ревности, хотя и живет в знойном климате[40].
С другой стороны, дикарь лучше культурного человека: чувство сострадания в нем бессознательно, но живо; в цивилизованном же человеке оно развито, но слабо. Под окном философа можно безнаказанно зарезать ближнего; заткнув уши и придумав несколько поводов для своего оправдания, он легко может заглушить в себе голос природы. Дикарь же не обладает этим удивительным талантом, и вследствие отсутствия мудрости и разума он всегда без оглядки предается первому чувству человечности.
В том, что Руссо говорит о довольстве дикарей своим бытом и об их кротости, есть известная доля правды; но эта правда далека от реального психологического изображения их, которое составляет задачу современных этнографов и антропологов. Руссо и не ищет этой правды – его цель в том, чтобы установить как можно более резкий контраст между преимуществами дикого состояния и культурного быта. «Сравните, – говорит он, – без предубеждения эти два состояния и исследуйте, если можете, сколько новых путей к болезням и к смерти открыл культурный человек помимо его злобы, его потребностей, его бедствий…» И за этим следует страстное, едкое, на целой странице без передышки излитое перечисление всех зол современной культуры, и все для того, чтобы доказать, как дорого природа заставляет платить за пренебрежение, с которым относимся к ее урокам[41].
К подобным сравнениям давно уже прибегали для нравственных или сатирических целей, и Руссо имел в этом отношении много предшественников. Напрасно, однако, его сопоставляют с Тацитом и утверждают, как, например, Морлей, будто «Руссо писал о диком состоянии почти в таком настроении духа, в каком Тацит писал о Германии». Если бы это было так, «Германия» Тацита не могла бы служить современной науке основанием для всех политических, юридических и экономических исследований о быте древних германцев. Естественнее было в этом случае сопоставить Руссо с Вольтером и привести в параллель роман последнего – «L'Ingénu». Здесь появление простодушного и честного дикаря среди тогдашнего французского общества служит превосходною точкой отправления для беспощадной критики религиозного фанатизма и иезуитского ханжества, произвола и продажности администрации и вообще пороков и предрассудков так называемого цивилизованного общества. И как Вольтер сумел воспользоваться этой темой, как искусно он заставляет читателя смеяться и негодовать, как метко попадает каждый удар его сатиры!.. Как слаба – сравнительно с этим живым контрастом между наивным и благородным Гуроном и развращенными священниками и чиновниками – риторическая тирада Руссо: «Что за зрелище представляет для караиба трудная и завидная деятельность европейского министра! Сколько жестоких смертей не предпочел бы этот апатичный дикарь такой ужасной жизни, которая часто даже не вознаграждается удовольствием делать добро!»
Преимущество, которое, вероятно, многие читатели в данном случае готовы будут отдать Вольтеру перед Руссо, обусловливается не столько различием между сатирическим и риторическим отношением к предмету, сколько основною точкой зрения обоих на цивилизацию. Первый есть истый сын культуры своего века; он страстно любит ее и желает путем сатиры исправить ее недостатки; Руссо исполнен чувством пресыщения цивилизацией; в нем говорит тоска по тому полудикому состоянию, из которого человек выбрался путем стольких трудов и страданий; в нем пробудились грезы о человеческом младенчестве, воспоминания о поре, когда жизнь человека слита с жизнью природы и он еще не поднялся над нею посредством самосознания. Его задушевную мысль отлично выражает виньетка заглавного листа к VIII тому в издании 1790 года: она изображает европейца в костюме ХУШ века – в высокой мягкой шляпе с пером, в богатом кафтане, в чулках до колен и башмаках; в одной руке он держит высокую трость, а другою делает знак изумления; перед ним же стоит обнаженный человек в свободной и изящной позе оперного актера; середина его тела задрапирована какой-то звериной шкурой, а сбоку висит меч; на земле перед ним лежит какой-то узел, на который он показывает рукой, тогда как другая изображает прекрасный ораторский жест: это готтентот, историю которого Руссо рассказал в своем рассуждении, заимствовав ее из «Собрания путешествий»: Вандер Стел, губернатор Капа, взял этого готтентота к себе ребенком и воспитал его по-европейски: «его научили нескольким языкам и успехи его вполне соответствовали заботам о его воспитании». Когда он вырос и стал обнаруживать большой ум, его отправили на службу в Восточную Индию. Возвратившись на мыс Доброй Надежды, он посетил своих родственников и там решился отказаться от своего европейского наряда и одеться в овечью шкуру. В таком виде он явился к своему воспитателю и в патетической речи отрекся от христианской религии и «всего этого наряда», прося как милости оставить ему ожерелье и меч, который он сохранит из любви к нему. «Не дождавшись ответа, он укрылся бегством».
Подобные рассказы о цивилизованных дикарях, которые испытывали тоску по состоянию своих отцов и возвращались к нему, занимали воображение Руссо; он поместил у себя даже историю ребенка, вскормленного волками, найденного в 1344 году в лесу, жившего потом при дворе гессенского принца и говорившего, что, если бы это зависело от него, он охотно возвратился бы к волкам, предпочитая жить с ними, чем среди людей[42].
Семена, посеянные Руссо, пали на восприимчивую почву. С него началось паломничество к дикарям, и потянулись к ним путешественники-филантропы, как Ферстер и Шамисо, приветствовавшие в диком человеке своего лучшего брата, и путешественники вроде Уатертона и Местера, которые шли к диким с тем, чтобы сделаться дикарями. Он же дал толчок литературному движению, обличавшему цивилизованную Европу устами добродетельных гуронов и канадийцев, от имени которых честный и испытанный горечью жизни Зейме заявлял европейцам: «Мы, дикие, – лучше люди, чем вы». Такие фантазии, то поэтически-трогательные, то забавные, были главным плодом сентиментальной риторики Руссо и совершенно заглушили заключающееся в ней зерно истины, которое при другом направлении могло бы дать здоровые плоды. Таким зерном истины мы признаем, что просвещение может, при известных условиях, стать источником глубокого душевного разлада. Как метко выразил эту мысль Руссо в восклицании: «Что может быть печальнее положения дикаря, ослепленного просвещением, измученного страстями и рассуждающего о состоянии, столь несходном с его бытом»[43]. Но Руссо не остановился на этой практической истине и свел подхваченный им с таким успехом антагонизм между диким состоянием и цивилизацией к фантастическому софизму о превосходстве дикаря над культурным человеком.
Мечтания Руссо о преимуществе дикарей и дикого состояния не могли не отразиться на его суждениях о народах вообще и на его представлениях о народе. Среди культурных народов он стал явно отдавать преимущество тем, которые были наименее цивилизованны или, как он выражался, стояли ближе к природе. «Народы, – говорит Руссо в „Эмиле“, – наименее цивилизованные, вообще самые мудрые»[44].
Отсюда оставался один только шаг до распространения такого взгляда на различные составные части одного и того же народа и до применения к ним той же мерки. Среди самого цивилизованного народа можно встретить массу людей, «поставленных природой на одинаковом расстоянии между тупостью животного и пагубным просвещением цивилизованного человека, – людей, сохранивших среди развращенной культуры первобытную простоту и чистоту». – Руссо смело сделал этот шаг; замечая, что все народы выигрывают по мере их удаления от центра или от столицы, он продолжает: «Чем более они приближаются к природе, тем более добрых свойств преобладает в них, и только забившись в города и изменившись под влиянием культуры, они развращаются и меняют некоторые недостатки, более грубые, чем зловредные, на приятные, но пагубные пороки»[45].
В этом месте софизм скрадывается вследствие того, что преимущество, отдаваемое природной дикости перед культурой, совпадает с контрастом между жителями деревень и городов, среди которых при большей культуре встречается часто и большая развращенность. Но в других местах софизм, что просвещение есть зло, что невежество есть оплот добродетели, применяется безразлично к народной массе в деревнях и городах, и сельская идиллия уступает место идеализации массы. Нет добродетели, нет преимущества, которые бы Руссо не приписывал народу в противоположность буржуазии или светскому обществу. Господствовавшие в его время моды в Париже дают ему повод восхвалять целомудренность даже парижской черни: «стыдливость и скромность глубоко вкоренены в понятиях народа, и в этом случае, как во многих других, грубость (la brutalité) народа честнее, чем приличие светских людей»[46].
Чернь, по мнению Руссо, сострадательнее интеллигенции[47]. В том месте своего рассуждения о неравенстве, где Руссо доказывает преизбыток гуманности у дикаря перед философом, он продолжает: «во время мятежа, уличной свалки, сбегается толпа, благоразумный человек удаляется, чернь же и уличные торговки (la canaille, les femmes des halles) разнимают дерущихся и мешают порядочным людям избивать друг друга».
Для Руссо не подлежит сомнению, что погонщик мулов в любви «ближе к счастью, чем миллионер»; но это не мешает ему признать, что нет никакого различия в чувствах между людьми различных сословий. «Человек, – говорит он, – один и тот же во всех состояниях; а если это так, то сословия наиболее многочисленные заслуживают наиболее уважения. В глазах мыслящего человека все гражданские различия исчезают; он видит те же страсти, те же чувства в холопе (goujat) и в каком-нибудь знаменитом человеке, и он отмечает между ними только различие в способе выражения, в более или менее тщательной отделке; если даже между ними есть какое-нибудь общественное различие, то оно служит к ущербу того, в ком меньше искренности. Народ показывает себя тем, что он есть, и не представляется привлекательным (n'est pas aimable); что же касается до светских людей, то они, конечно, принуждены маскироваться: если б они являлись тем, что они в действительности, они внушали бы отвращение»[48].
Обращаясь к образованным классам, Руссо заявляет, что народ, говоря иным языком, обладает «таким же умом и большим здравым смыслом, чем они»; а к этому он прибавляет еще другое превосходство – в политическом отношении – в честности и в чувстве справедливости сравнительно с правящим классом.
«Несправедливость и обман, – говорит Руссо, – часто находят себе покровителей, но они никогда не встречают сочувствия в обществе; в этом именно отношении голос народа есть глас Божий. К сожалению, однако, этот священный голос всегда заглушается в общественных делах возгласами властителей, и жалоба угнетенной невинности изливается тихим ропотом, которым пренебрегает тирания. Все, что происходит посредством интриги и подкупа, совершается преимущественно в интересах тех, кто заправляет обществом, и это не могло быть иначе. Хитрость, предрассудки, корысть, надежда, тщеславие, благовидные предлоги, наружный вид порядка и дисциплины – все это служит средством для ловких людей, облеченных властью и опытных в искусстве обманывать народ»[49].
Поэтому для Руссо не существует беззаконного или несправедливого возмущения – народ ни в чем и ни в каком случае не может быть виноват. «Никогда, – говорит он, – народ не восставал против законов, если правители сами не начинали нарушать их в чем-нибудь»[50].
Такие замечания не пропали даром. Догма непогрешимости народной, породившая целый рой страстных проповедников, принесла кровавые плоды во время французской революции и послужила затем многим историкам, как, например, Мишле, исходною точкой для фантастического освещения этого события. При этом никого из поклонников Руссо не приводили в смущение иные, чрезвычайно реалистические, замечания о народе, рассеянные в его сочинениях и резко противоречащие догме о непогрешимости. «Заведывание властью в международных отношениях, – говорит Руссо, – (l'exercice extérieur de la puissance) не может быть предоставлено народу; великие государственные принципы ему недоступны (ne sont pas à sa portée); он должен в этом отношении положиться на своих правителей, всегда более просвещенных в этом случае, чем он, и не имеющих никакого интереса заключать договоры, невыгодные для своего отечества»[51].