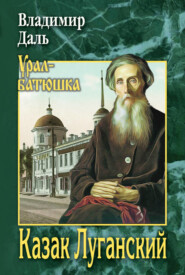По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь человека, по Далю, – это путешествие, в данном случае – «прогулка». И все этапы жизненного пути главного героя повести отмечены перемещением его по Невскому проспекту: сперва он живет в самом конце его, постепенно и волею случая передвигается к самому началу, потом по случайности переезжает на противоположную сторону проспекта и к финалу своей жизни возвращается по этой противоположной стороне к тому же концу Невского проспекта, откуда и началась его жизнь.
В связи с образом жизни как путешествия Даль использует и такие традиционные для литературы начала XIX в. «этапные» показатели развития своего героя, как пятнадцатилетие и тридцатилетие[23 - См. об этом: там же. С. 41, 93–97, 109–111; а также: Строганов М.В. Год рождения Грибоедова, или «полпути жизни» // А.С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л.: Наука, 1989. С. 10–16.]. Бесплодное обучение героя у жестянщика прекращается в пятнадцать лет – возраст, когда заканчивается отрочество и наступает юность, готовность к самостоятельной жизни. Ровно пятнадцать лет Осип Иванович служит переписчиком в домашней конторе князя Трухина-Соломкина, пока не достигает он возраста тридцати лет. После смерти приемного отца и отъезда приемной матери в Германию Осип Иванович «нанял комнату у портного, занимавшего чердачок в первом или втором доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедши в тридцать лет всю правую сторону его, от монастыря до Дворцовой площади». Далее автор продолжает: «Итак, часть вторая: житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его, на пути от Дворцовой площади обратно до Невского монастыря, по левой, аристократической стороне проспекта».
Во второй половине жизни Осипа Ивановича внутренних датировок уже нет (что в принципе соответствует культурной и литературной традиции) до самого конца повести, где сказано, что, отпраздновав свои пятьдесят шестые именины (поскольку день рождения героя был неизвестен), герой вскоре скончался. Вообще, согласно традиции, полных лет человека должно числиться семьдесят. Осип Иванович, таким образом, не доживает до этого времени, не выполняет положенного общего круга жизни. Но следует также заметить, что вторая половина жизни героя к тому же укорочена в сравнении с первой (двадцать шесть лет против либо «традиционалистских» сорока, либо календарных тридцати). Причины этого Даль просто не пытается объяснить; нам, следовательно, также придется оставить их безо всякой попытки интерпретации.
Вместо привычного для литературы собственно линейного движения из одной точки в другую Даль рисует в повести нечто подобное циклическому движению: герой появился на свет около монастыря (Александро-Невской лавры), к монастырю он вернулся в конце жизни, в монастыре он и похоронен. Вообще литература начала XIX в. знала и широко применяла циклические образы для изображения человеческой жизни. Но они имели всегда природоморфный характер: молодость уподобляется весне, утру; зрелость – полудню, лету; старость – осени, закату. Все это вполне привычные метафоры, многие из которых превратились в потерявшие былую образность речевые штампы[24 - См.: Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века. С. 8—17.]. Вот как это выглядит в повести: «Восхождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского проспекта представляет нам восход светила – рост и мужалось нашего героя; тут следует, по общим законам природы, временное стояние на одной и той же точке – и наконец нисхождение по левой стороне того же пространства, закат».
Даль соединяет линейный путь и циклическое движение: человек у него движется не по кругу, но вперед и назад.
В этом, конечно, состоит специфика его применения традиционных для литературы образов, но эта специфика не ощущается на фоне новых принципов изображения человека, которые разрабатывала литература 1840-х гг.
Литература широко применяла линейные и циклические образы в то время, когда осваивала понимание человека как становящегося единства, человека как находящегося в постоянном развитии. Вершины своей это движение достигает в творчестве Пушкина и уже во второй половине 1830-х гг. идет на убыль.
В творчестве Д.В. Веневитинова и А.И. Полежаева линейные и циклические образы используются в редуцированной и фрагментарной форме. На смену объяснения человека возрастом приходит объяснение человека средой. М.Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени» еще колеблется между этими двумя мотивировками, давая две версии формирования характера Печорина. Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» еще не знает, среда ли влияет на человек, либо человек создает вокруг себя некую оболочку – среду, и его помещики соответствуют своей среде, а что первично, что вторично, – этого он не показывает. Особое место в этих поисках новых принципов изображения человека занимал и Даль.
Даль в «Жизни человека…» дважды ссылается на Гоголя. Почти в самом начале повести он, дав свою краткую характеристику Невского проспекта как своеобразного мира, пишет: «Другой описал уже население Невского проспекта по дням и часам, по суточным переменам; вы видели, что по Невскому проспекту движется целый мир, сбывает и прибывает попеременно круглые сутки – но мир этот образуется и составляется из сложности всех чинов и званий, из совокупности нескольких тысяч людей, коих судьба сводит день за день изо всех концов столицы и целого царства. Каждое из лиц, составляющих собою мир совокупностей на Невском, служит этому миру час, а много два в сутки; остальное время лицедеи наши проводят во всех концах столицы, продолжают комедию или трагедию свою в Садовой, Гороховой, Литейной, а иной, пожалуй, даже на Острову и на Песках, но наш герой не сбивался во весь свой век со столбового пути Невского проспекта и был и жил тут весь свой век; тут он начал жить, тут и кончил…» Речь идет о повести Гоголя «Невский проспект», которая была напечатана в 1835 г. в сборнике «Арабески». Даль адекватно обозначает свое отличие от Гоголя и вполне сознательно делает это в начале повести, чтобы заострить на этом внимание читателя. Это, разумеется, не полемика с Гоголем, это указание на собственный путь.
Гоголь не показывал в «Невском проспекте» человеческой индивидуальности; напротив того, он резко подчеркивал деиндивидуализацию личности, строя описания на принципе метонимии, когда вещь, деталь туалета заменяют собой человека. Кроме того, Гоголь не изображает «жизни человека»: хотя в его повести показаны два молодых человека, но это только два эпизода, два частных случая, долженствующие подкрепить общую мысль об изменчивости Невского проспекта, это вовсе не изображение человеческой судьбы. Даль уже в заголовке повести указывает на свое намерение показать «жизнь человека», то есть индивидуальную судьбу.
Однако индивидуальная судьба главного героя в повести Даля постоянно сопоставляется с типичной судьбой маленького чиновника в повести Гоголя «Шинель», впервые напечатанной в 1842 г., за год до появления повести Даля. Осип Иванович «молча входил <…> в контору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и писем и молча кланялся, если старший конторщик или помощник его входили. <…> Он переписывал все, что ему наваливали на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не ошибался; но если бы ему дать перебелить приговор на ссылку его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел бы домой и спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что ему угрожает». И далее: «Иосиф восходил также мало-помалу лестницу чинов и был уже титулярный – но занятия его оставались все одни и те же, и за сочинительским столом ему сидеть не удавалось». Не надо напрягать память, чтобы сразу увидеть в этих описаниях Осипа Ивановича гоголевского Акакия Акакиевича. И сходство это можно найти даже в мелочах: как сложно происходил выбор имени только что родившегося Акакия, так же сложно происходит это и с героем Даля. При подкинутом ребенке нашли записку, которую сначала прочитали так: «Просим принять сего младенца, нареченнова Гомером…» – и только потом разобрались, что в записке было написано не Гомер, а Иосиф.
Но при всем сходстве видны и различия. Гоголь страдает за своего героя, получавшего крайне скудное жалованье и обижаемого сослуживцами. Даль же отмечает, что Осип Иванович вынужден был прибегать к поискам дополнительного заработка, так как «казенное содержание его никогда не простиралось далее сотен». И вместе с тем никаких нравственных и моральных мучений по поводу своей фактической нищеты он не переживает. Более того, к концу жизни он скопил «до пяти тысяч рублей, отдал их заживо в Невский монастырь и приобрел себе за них там место для погребения». Неженатый Акакий Акакиевич только во время изготовления шинели ощущает полноту жизни, «как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу»[25 - Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 3–4. С. 120.]. Но неженатый герой претерпевает неудачу и с шинелью. Личная жизнь Осипа Ивановича складывается внешне так же неудачно: имея намерение жениться, он все-таки не смог найти себе жену: «все искания и старания его остались безуспешны; его только раза два одурачили и этим вовсе отбили охоту пускаться на такие сомнительные поиски». Но никакой трагедии в жизни этого героя не происходит.
Гоголь в «Шинели» показывает трагизм судьбы «маленького человека», а Даль в «Жизни человека…» утверждает, что никакого трагизма в этой жизни нет. Недаром поэтому, кажется, Осип Иванович в своем дневнике описывает «одного пьяного, которого городовой вез на дрожках; мужик лежал навзничь, поперек дрожек, глядел на небо и, указав туда же пальцем, сказал с чувством: "Служивый – а служивый! Все там будем!"» В день своих пятьдесят шестых именин Осип Иванович вновь вспомнил эти слова, а вскоре после этого и умер.
Даль использует линейные и циклические мотивировки человеческого поведения общими закономерностями возраста, уже отмершие к началу 1840-х гг., не потому, что он, родившийся в 1801 г., впитал их еще в ранние годы своей молодости, но потому, что в данном случае это был сознательный прием в полемике с Гоголем. И повесть «Жизнь человека…» следует поэтому рассматривать как рассказ об общих закономерностях человеческой жизни, следование которым стирает трагизм неурядиц жизни частной. Это, конечно, не означает, что Даль не ценил гения Гоголя. Но и ценя гоголевский гений, он шел в литературе своею дорогой.
Название повести «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о собственном своем житье-бытье за первую половину жизни своей» интересно во многих отношениях. Мы видим здесь традиционное для литературы конца XVIII – начала XIX в. истолкование «первой половины жизни» как тридцатилетия: уже во вступлении к тексту герой заявляет, что поведет свой рассказ об «уроках, коими наделяла меня судьба постоянно в течение тридцати лет, считая с самого рождения». Такое указание есть и в одновременно написанной повести «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту».
Как и в «Жизни человека», этапы жизненного пути отмечаются передвижениями в пространстве. В «Жизни человека» они отмечались перемещением героя из здания в здание, от одного конца Невского проспекта в другой и обратно. В «Вакхе» перемещение героя не столь строго ориентировано в пространстве: здесь пространственные вехи перемежаются с социальными ориентирами, например: «От сотворения моего и до барской прихожей» (1-я глава), «От барской прихожей до француза с отмороженными ногами» (2-я глава). На этом фоне название главы «От метлы с фонарем и до самого полковника и дальше…», которое так не устроило Тургенева, не содержит в себе ничего особенного, хотя, в известной мере, Тургенев, конечно, прав: такие заголовки сильно отдают булгаринщиной, дешевой игрой с читателем с целью привлечь его внимание, и поэтому они лишены подлинного юмора. Но если рассматривать эти заголовки как обозначение вех в жизни героя, то все становится на свои места. «Метла с фонарем» – это только с первого взгляда смешно по-булгарински. На самом-то деле это должно быть осмыслено читателем и должно стать ему смешным по-гоголевски: ведь и у Гоголя в «Невском проспекте» героя заменяла вещь, откуда и рождалась идея обманчивости Невского проспекта.
Итак, в повести про Вакха Даль мотивирует жизнь человека возрастом и возрастными изменениями по типу «пора пришла – она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено». Однако в начале 1840-х гг. такие принципы изображения человека заменяются поисками в области соотношения человека и среды. Можно было бы сказать, что на место понимания человека как природного явления приходит понимание его как явления социального. Что же на этом фоне делает Даль?
Даль наделяет обе повести двойными названиями: «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о собственном своем житье-бытье за первую половину жизни своей», «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту». Герои обеих повестей – люди без роду, без племени, но амплитуда колебаний и последовательность смены их социального статуса различна. В «Жизни человека» герой переходит от статуса мещанина в статус чиновника. Герой «Вакха» чаще и радикальнее меняет свой статус: то мещанин, то крепостной раб, то солдат, то кантонист, то медик в чиновничьем звании, которое давало личное дворянство. Но есть и еще более важное различие между ними. Судьба Осипа Ивановича рассказана сторонними глазами, сам бы он не смог о себе (тем более так) рассказать, не будучи наделен рефлексией и самосознанием (в этом смысле он весьма похож на Акакия Акакиевича Башмашкина). Вакх же Сидоров (не Сидорович!) Чайкин – рефлектирующий человек, наделенный чувством собственного достоинства и вполне способный сам рассказать о своих приключениях.
Неспособность Осипа Ивановича к рефлексии, как можно предположить, связана с его инвалидностью: он недаром наделен врожденным физическим недостатком – горбом, который в какой-то мере корреспондирует с недостатками его интеллектуального развития (связь физического недостатка с интеллектуальным – черта в высшей степени архаическая). Ограниченность Осипа Ивановича проявляется не только в том, что он, переписывая бумаги, совершенно не понимает их смысла, но и в том, что он не может выйти за пределы Невского проспекта.
Совершенно иным выглядит Вакх. Это самый первый в русской литературе тип героя-разночинца, который гордится своим происхождением и не стесняется своего отца-мещанина, зарабатывающего на хлеб чеботарным мастерством. Он был принципиально новым в литературе начала 1840-х гг. И тот же Тургенев, наверное, иначе должен был бы оценить повесть Даля, если бы предполагал, что на рубеже 1850— 1860-х гг. он сам создаст своего разночинца Базарова, который гордо и с вызовом называл себя Евгением Васильевым (не Васильевичем!). Вакх Сидоров Чайкин предвосхитил Евгения Васильева Базарова и в том, что он окончил петербургскую Медико-хирургическую академию значительно раньше, нежели его знаменитый последователь, и так же, как и он, зарабатывал на жизнь уроками.
Однако Тургенев отнесся к повести весьма критично и даже достаточно неожиданно подметил в ней начало, которое мы назвали булгаринским. Такое истолкование не было несправедливой выдумкой критика. В «Иване Ивановиче Выжигине» главы имели названия такого типа: «Я узнаю короче Вороватина. Подслушанный разговор. Предчувствия. Капитан-исправник», которая в исполнении Даля могла бы звучать так: «От Вороватина до капитан-исправника». Булгаринское начало можно отметить и в том, что оба героя начинают свой жизненный путь сиротами в составе помещичьей дворни, терпя всяческие унижения и не получая настоящего воспитания, хотя у Булгарина это выражено более «жалостливо», а у Даля внешне более нейтрально, а по сути более сурово. В «Жизни человека» герой также является на свет сиротой, и хотя он сразу же получает более высокий социальный статус и воспитывается в условиях достатка и родительской заботы, автор подчеркивает одиночество героя. После смерти приемного отца приемная мать Осипа Ивановича уезжает на родину – в Германию, оставляя его одного в Петербурге, к чему он явно не подготовлен. Вопрос о переезде Осипа Ивановича вместе с приемной матерью не стоит, и эта последняя, не имевшая своих детей и относившаяся к нему с материнской лаской и заботой, даже не предлагает ему сопроводить себя.
Внешнее сходство между Далем и Булгариным не стоит, конечно, объяснять тем, что обе повести (особенно «Вакх») – это подражание Булгарину или полемика с ним. Романы Булгарина и повести Даля несут в себе явные отголоски плутовского романа, но герои Даля – не плуты, они не организуют свою жизнь, но только претерпевают ее, приключения случаются с ними, а не они устраивают приключения или ввязываются в них. Все, что происходит с героями и как это происходит, не зависит от них самих. Осип Иванович не сделал ничего, чтобы достичь своего положения, все получалось помимо его намерений и воли. Вакх Чайкин совершает те или иные поступки вполне сознательно и даже добивается определенных результатов, но многочисленные повороты его судьбы совершаются так же помимо его воли. Все у них происходит вдруг и случайно.
Недолгая жизнь плутовского романа в русской литературе первой половины XIX в. достаточно хорошо описана[26 - См.: Переверзев В.Ф. У истоков русского реалистического романа // Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма. М.: Современник, 1989.], однако имя Даля в связи с этой жанровой разновидностью романа никогда, кажется, не упоминалось. Между тем даже наших наблюдений достаточно, чтобы заметить эту связь. Однако плутовской роман в транскрипции Даля осложнен важной литературной традицией философского европейского романа в духе Вольтера. Герой «Вакха» говорит, что описывает свою жизнь за первые тридцать лет, но в повести на малой площади рассказано о таком количестве событий и героев, которое с трудом помещается в этот временной отрезок. При этом герои появляются по требованию сюжета, словно джины из бутылки: либо чтобы произвести пагубное действие на главного персонажа, либо чтобы выручить его из беды. Вот только один пример: когда Вакха во второй раз хотят отдать в солдаты, военным приемщиком и наблюдающим за процедурой случайно оказались ротный командир и полковник того полка, где ранее служил Чайкин, почему оказалось возможным исправить ситуацию и освободить его от приема. Это совершенно непривычно для традиционного бытового романа, но для плутовского романа с элементами философской конструкции это вполне нормально.
Столь же странно с точки зрения бытового романа и вполне в духе плутовского и авантюрного организовано и время в «Вакхе». Находясь в первой службе, герой случайно встречает бродягу-мещанина, который рассказывает, как лет двадцать назад он крестил Вакха. Итак, от этого времени до конца повести должно пройти десять лет. Как же они прошли? По окончании службы герой живет по-прежнему при полку и взаимно влюбляется в свояченицу своего полковника Грушу. Хотя семья полковника спокойно принимает у себя отставного унтер-офицера из мещан, но все же не может спокойно отнестись к возможному мезальянсу, поэтому полковница, сестра Груши, предлагает Вакху покинуть их. Намереваясь ехать в Петербург, чтобы получить там образование, Вакх на год застревает в родном Комлеве, но, не скопив достаточных денег, еще год проживает у одного помещика, якобы обучая его детей. Сколько времени Чайкин обучается в академии, он не говорит, однако мы знаем, что срок обучения там составлял четыре года. По окончании академии герой служит по медицинской части в Алтынове два года и тут случайно встречает своего отца. Вскоре после этого Вакх выходит в отставку и поступает в больницу, которую организовали несколько соседских помещиков; здесь, проживая в деревне со своим отцом, он и встречает свое тридцатилетие. «В тридцать лет люди обыкновенно женятся»[27 - Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. XIV. С. 151.], – считал Пушкин, что вполне согласовалось с принятой в России традицией. Надумал жениться и Вакх Чайкин. Тут кстати помог и француз, воспитавший его самого, так как француз этот (как джинн из бутылки и, очевидно, потому, что других французов-воспитателей в это время в России не нашлось) случайно оказался весьма кстати воспитателем у младших детей чайкинского полковника. Он сообщил, что все еще любимая нашим героем Груша все еще не вышла замуж. Взвесив обстоятельства, Чайкин через француза делает предложение и получает согласие. Так на тридцать первом году жизни он составил свое счастие. Если сложить все годы, проведенные Вакхом после службы и до получения места в деревенской больнице, то мы получим десять лет. С этой стороны все сходится. В течение этих десяти лет наш герой по-прежнему продолжал, оказывается, любить Грушу, хотя в повести нигде об этом не говорится. Но более того, Груша тоже, оказывается, продолжала любить Чайкина.
И тут мы должны задать вопрос: сколько было и сколько стало лет Груше? Вот как отвечает на это Чайкин, глядя на портрет Груши, присланный ему французом: «Личико это было то же, как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете всего лет пятнадцать или шестнадцать». За десять лет жизни Вакха Груша прожила всего шесть или семь лет. Ясно, для чего это нужно в данном месте автору: требуется мотивировать возраст героини. Если к пятнадцати-шестнадцати годам прибавить шесть-семь лет, то мы получаем, что Груша к моменту своего замужества находится в возрасте между двадцать первым и двадцать третьим годом. Вполне нормальный возраст для девицы на выданье: уже достаточно критичный, но еще молодой. Но если мы к тем же пятнадцати-шестнадцати годам прибавим реальные десять лет, то получим уже двадцать пять – двадцать шесть лет, время, по нормам XIX в., стародевичества.
С этой Грушей связана и еще одно внутреннее противоречие. Когда она влюбилась в Вакха, к ней посватался один полковой офицер, и она ему отказала, что весьма смутило родственников Груши. Однако если бы возраст героини был указан в своем месте, то этот отказ выглядел бы вполне оправданным, а брачное предложение – слишком преждевременным, так как хотя такие браки и случались, но все-таки не были нормой. Груша в «Вакхе Сидорове Чайкине» выполняет ту же роль, что Кунигунда в «Кандиде» Вольтера. Она стареет, но если Вольтер обнажает этот факт, то Даль скрывает его.
Я вовсе не хочу сказать, что в своем произведении Даль ориентируется на Булгарина или Вольтера. Для создания этой конструкции достаточно было чувствовать традицию жанра. Воспитанный на культуре конца XVIII – начала XIX в., Даль, несомненно, читал и Нарежного, и других авторов плутовского романа. Он воспроизводит конструкцию жанра, а не подражает тому или другому автору. Поэтому герой Даля не обусловлен окружающей его средой, вставные эпизоды в повести (иногда довольно пространные) только внешне напоминают физиологические очерки, а по существу являются вставными новеллами приключенческого романа.
АНЕКДОТИЧНЫЙ СЛУЧАЙ И АНЕКДОТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В коллективной монографии об истории русской повести XIX в. упомянута только одна повесть Даля – «Хмель, сон и явь». Характеристика и оценка ее подчинены давлению времени: «Достоинство повести заключается в сознательном стремлении автора разрабатывать крестьянскую тему как тему, равноправную со всеми другими. <…> Однако достоинства этого и других произведений ослабляются морализующей тенденцией, неумением раскрыть подлинные социальные причины "порчи нравов" в деревне»[28 - Мейлах Б.С. Теоретическое обоснование жанра повести натуральной школой // Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. Л.: Наука, 1973. С. 258.].
Даль ведет свой рассказ очень неторопливо: из двадцати страниц первые три целиком посвящены разным видам отхожего промысла в малоземельных губерниях России, и только после этого он переходит к семье плотников Воропаевых. Наконец мы подходим к завязке сюжета: отец Воропаев жалуется деду Воропаеву на внука, «что он-де стал ни с того, ни с сего погуливать и немало денег пропил». «Гневно вскинулся дед на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и заклинался, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не возьмет». А дед сказал: «Гляди, Степан, коли ты у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то Господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе».
Уйдя в марте месяце на заработки, Степан долго крепился, но однажды все-таки старый приятель, содержатель постоялого двора, подпоил его, чтобы выведать, есть ли у Степана деньги. Когда легли спать, Степану приснился «страшный сон»: «родной дед его <…> хотел его зарезать за то, что внук напился пьян. <…> Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух». Случайно проснувшись, Степан услышал, как жена хозяина упрашивала его не брать греха на душу и не убивать гостя из-за денег. Он срочно уезжает, но его нагоняет хозяин постоялого двора и замахивается на него цепом. Увернувшись от удара, Степан выхватывает цеп, бьет по нападающему и нечаянно сам убивает его. Испугавшись, Степан прячет труп и уезжает. На обратном пути он заезжает на постоялый двор проверить, известно ли уже про случившееся, но хозяйка не пускает его, говоря, что хозяин исчез, а при нем было сто рублей денег. Эти слова соблазнили Степана, он вернулся на место происшествия и взял деньги. С этими шальными деньгами Степан стал «погуливать», так что «под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и вычел еще с него за прогул по целковому за день; пошел он к другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал».
Нашел себе Степан нового хозяина и с одним приятелем, Гришкой, таким же любителем выпить, пошел на заработки. По дороге Степан с Гришкой напились, а потом, как водится, подрались. Проснувшись на берегу Волги один, Степан решает, что он в драке случайно убил своего товарища и, считая себя грешником, доносит на себя. Степана приговорили к каторге, но прокурор уголовной палаты долго думал, утверждать ли приговор, основанный только на том, что человек сам на себя донес. Пока он думал, Гришка случайно отыскался и его случайно же идентифицировали с мнимо убитым. Степана оправдали, но он решил сознаться в другом убийстве, однако ему не поверили и отпустили.
После всех этих приключений Степан перестает пить. Еще уходя из дома на заработки, Степан с родичами планировал по возвращении жениться и нашел себе невесту. Полтора года Степан, будучи в отходе, не слал домой денег; не менее полугода шло следствие. Таким образом, наш герой был пропавшим без вести около двух лет. А «перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с саженью в руках; отец и дед его благословили, а Машка Сошникова, ныне Воропаева, готовила ему <…> щи да кашу». Машка – это, видимо, та самая девка, которая и планировалась в жены Степану несколько лет (минимум два года) назад. Но едва ли крестьянская семья не отдавала замуж девку в возрасте; это не точно ни фактически, ни психологически. Машка, как и героиня повести «Вакх Сидоров Чайкин», ожидает своего возлюбленного столько времени, сколько нужно по законам художественного творчества, а не по законам реальной жизни. В художественном мире такие сдвиги времен – самое обычное дело. Но в повести, которую два тонких ценителя назвали психологически достоверной, это представляется не вполне уместным.
Белинский и Некрасов ценили «Хмель, сон и явь» как «психологический портрет русского человека, мастерски схваченный с натуры», как «психологический взгляд на натуру русского человека, весьма проницательный». Действительно, в «Хмеле» Даль едва ли не впервые в русской литературе дал психологический портрет русского мужика без сусальности и без той снисходительной иронии, с которой он изображал дворников и денщиков.
Но «Хмель» – это все же анекдотичный случай в упаковке анекдотического очерка. Это анекдотичный случай, потому что все в нем разворачивается вдруг, случайно. Случайно Степан проснулся и подслушал разговор, случайно ему удалось увернуться от удара и ударить самому, случайно познакомился с Гришкой и не убил его и случайно же этот Гришка отыскался в самый нужный момент, наконец, случайно судьи не поверили признанию Степана во втором убийстве. Смешного тут, может быть, и немного, зато все анекдотично. И написан этот случай как анекдотический очерк: все жизненно достоверно, но все подано несколько отстраненно, без сочувствия герою и без сопереживаний. Все это – случай из жизни.
По модели повести «Хмель, сон и явь» построены и все «Рассказы из русского быта». Они основаны на конкретном бытовом материале, в них нет выдумки, но они и не стремятся раскрыть социальные отношения между людьми, не стремятся показать обусловленность человека средой и мотивированность поступков человека внешними условиями и событиями. Иначе сказать, Даль не был писателем-реалистом, поэтому его произведения и не устраивали критиков-современников, а историки литературы не могли найти ему места в привычных литературных рядах и группировках. «Рассказы из русского быта» – это большой сборник анекдотов в старинном смысле этого слова, сборник рассказов о жизненных парадоксах и эксцессах. Среди них рассказы о национальном характере, о народной нравственности, о нравах дворянства и чиновничества. Несколько меньше рассказов, основанных на народных преданиях или посвященных судьбам отдельных людей. Даль не стремится к социальным обобщениям. Берут чиновники взятки – и берут. Даль констатирует взяточничество как эксцесс, но не обличает взяточничество как социальное явление, не анализирует его причины и следствия. В этом его принципиальное отличие от реалистов. И чтобы понять Даля, надо прочитать его в ином ключе, чем мы читаем И. Тургенева и Л. Толстого, М. Салтыкова и даже Ф. Достоевского. Только тогда мы поймем подлинное значение его как писателя.
М.В. Строганов
Повести
К. Гефтлер. Вид Невского проспекта и Адмиралтейства
Бедовик
Глава I
Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу
В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.
Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до 75 раз в году, если не более. Он свято исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.
М. Добужинский. Провинция
Евсея Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид – и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день, другой, поработать – принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это, – думал Евсей Стахеевич, – кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам намедни слышал, как прокурор наш, например, попенял очень недвусмысленно одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе: "Вы, сударь, – сказал прокурор, – с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по воскресеньям не уважаете…" Что же тут станешь делать? Поедешь поневоле».
Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты, и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: у себя, принимают, или: выехали-с, не принимают, а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени – все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать рассуждать про себя, тем более что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.
«И как это глупо, бестолково, – так думалось ему, – ну пусть бы уже раза два, три в году, коли это необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то – каждое воскресенье, каждый Божий праздник.
Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю, можно ли принять с повального согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сек нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуши: «Не я бью, сам себя бьешь». То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя. Он морщится, и я морщусь, – а между тем, как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям, я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок.
И пусть бы еще наш брат, мелочь, ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресеньям не уважаете начальства», а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым, словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням…»
В связи с образом жизни как путешествия Даль использует и такие традиционные для литературы начала XIX в. «этапные» показатели развития своего героя, как пятнадцатилетие и тридцатилетие[23 - См. об этом: там же. С. 41, 93–97, 109–111; а также: Строганов М.В. Год рождения Грибоедова, или «полпути жизни» // А.С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л.: Наука, 1989. С. 10–16.]. Бесплодное обучение героя у жестянщика прекращается в пятнадцать лет – возраст, когда заканчивается отрочество и наступает юность, готовность к самостоятельной жизни. Ровно пятнадцать лет Осип Иванович служит переписчиком в домашней конторе князя Трухина-Соломкина, пока не достигает он возраста тридцати лет. После смерти приемного отца и отъезда приемной матери в Германию Осип Иванович «нанял комнату у портного, занимавшего чердачок в первом или втором доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедши в тридцать лет всю правую сторону его, от монастыря до Дворцовой площади». Далее автор продолжает: «Итак, часть вторая: житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его, на пути от Дворцовой площади обратно до Невского монастыря, по левой, аристократической стороне проспекта».
Во второй половине жизни Осипа Ивановича внутренних датировок уже нет (что в принципе соответствует культурной и литературной традиции) до самого конца повести, где сказано, что, отпраздновав свои пятьдесят шестые именины (поскольку день рождения героя был неизвестен), герой вскоре скончался. Вообще, согласно традиции, полных лет человека должно числиться семьдесят. Осип Иванович, таким образом, не доживает до этого времени, не выполняет положенного общего круга жизни. Но следует также заметить, что вторая половина жизни героя к тому же укорочена в сравнении с первой (двадцать шесть лет против либо «традиционалистских» сорока, либо календарных тридцати). Причины этого Даль просто не пытается объяснить; нам, следовательно, также придется оставить их безо всякой попытки интерпретации.
Вместо привычного для литературы собственно линейного движения из одной точки в другую Даль рисует в повести нечто подобное циклическому движению: герой появился на свет около монастыря (Александро-Невской лавры), к монастырю он вернулся в конце жизни, в монастыре он и похоронен. Вообще литература начала XIX в. знала и широко применяла циклические образы для изображения человеческой жизни. Но они имели всегда природоморфный характер: молодость уподобляется весне, утру; зрелость – полудню, лету; старость – осени, закату. Все это вполне привычные метафоры, многие из которых превратились в потерявшие былую образность речевые штампы[24 - См.: Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века. С. 8—17.]. Вот как это выглядит в повести: «Восхождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского проспекта представляет нам восход светила – рост и мужалось нашего героя; тут следует, по общим законам природы, временное стояние на одной и той же точке – и наконец нисхождение по левой стороне того же пространства, закат».
Даль соединяет линейный путь и циклическое движение: человек у него движется не по кругу, но вперед и назад.
В этом, конечно, состоит специфика его применения традиционных для литературы образов, но эта специфика не ощущается на фоне новых принципов изображения человека, которые разрабатывала литература 1840-х гг.
Литература широко применяла линейные и циклические образы в то время, когда осваивала понимание человека как становящегося единства, человека как находящегося в постоянном развитии. Вершины своей это движение достигает в творчестве Пушкина и уже во второй половине 1830-х гг. идет на убыль.
В творчестве Д.В. Веневитинова и А.И. Полежаева линейные и циклические образы используются в редуцированной и фрагментарной форме. На смену объяснения человека возрастом приходит объяснение человека средой. М.Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени» еще колеблется между этими двумя мотивировками, давая две версии формирования характера Печорина. Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» еще не знает, среда ли влияет на человек, либо человек создает вокруг себя некую оболочку – среду, и его помещики соответствуют своей среде, а что первично, что вторично, – этого он не показывает. Особое место в этих поисках новых принципов изображения человека занимал и Даль.
Даль в «Жизни человека…» дважды ссылается на Гоголя. Почти в самом начале повести он, дав свою краткую характеристику Невского проспекта как своеобразного мира, пишет: «Другой описал уже население Невского проспекта по дням и часам, по суточным переменам; вы видели, что по Невскому проспекту движется целый мир, сбывает и прибывает попеременно круглые сутки – но мир этот образуется и составляется из сложности всех чинов и званий, из совокупности нескольких тысяч людей, коих судьба сводит день за день изо всех концов столицы и целого царства. Каждое из лиц, составляющих собою мир совокупностей на Невском, служит этому миру час, а много два в сутки; остальное время лицедеи наши проводят во всех концах столицы, продолжают комедию или трагедию свою в Садовой, Гороховой, Литейной, а иной, пожалуй, даже на Острову и на Песках, но наш герой не сбивался во весь свой век со столбового пути Невского проспекта и был и жил тут весь свой век; тут он начал жить, тут и кончил…» Речь идет о повести Гоголя «Невский проспект», которая была напечатана в 1835 г. в сборнике «Арабески». Даль адекватно обозначает свое отличие от Гоголя и вполне сознательно делает это в начале повести, чтобы заострить на этом внимание читателя. Это, разумеется, не полемика с Гоголем, это указание на собственный путь.
Гоголь не показывал в «Невском проспекте» человеческой индивидуальности; напротив того, он резко подчеркивал деиндивидуализацию личности, строя описания на принципе метонимии, когда вещь, деталь туалета заменяют собой человека. Кроме того, Гоголь не изображает «жизни человека»: хотя в его повести показаны два молодых человека, но это только два эпизода, два частных случая, долженствующие подкрепить общую мысль об изменчивости Невского проспекта, это вовсе не изображение человеческой судьбы. Даль уже в заголовке повести указывает на свое намерение показать «жизнь человека», то есть индивидуальную судьбу.
Однако индивидуальная судьба главного героя в повести Даля постоянно сопоставляется с типичной судьбой маленького чиновника в повести Гоголя «Шинель», впервые напечатанной в 1842 г., за год до появления повести Даля. Осип Иванович «молча входил <…> в контору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и писем и молча кланялся, если старший конторщик или помощник его входили. <…> Он переписывал все, что ему наваливали на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не ошибался; но если бы ему дать перебелить приговор на ссылку его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел бы домой и спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что ему угрожает». И далее: «Иосиф восходил также мало-помалу лестницу чинов и был уже титулярный – но занятия его оставались все одни и те же, и за сочинительским столом ему сидеть не удавалось». Не надо напрягать память, чтобы сразу увидеть в этих описаниях Осипа Ивановича гоголевского Акакия Акакиевича. И сходство это можно найти даже в мелочах: как сложно происходил выбор имени только что родившегося Акакия, так же сложно происходит это и с героем Даля. При подкинутом ребенке нашли записку, которую сначала прочитали так: «Просим принять сего младенца, нареченнова Гомером…» – и только потом разобрались, что в записке было написано не Гомер, а Иосиф.
Но при всем сходстве видны и различия. Гоголь страдает за своего героя, получавшего крайне скудное жалованье и обижаемого сослуживцами. Даль же отмечает, что Осип Иванович вынужден был прибегать к поискам дополнительного заработка, так как «казенное содержание его никогда не простиралось далее сотен». И вместе с тем никаких нравственных и моральных мучений по поводу своей фактической нищеты он не переживает. Более того, к концу жизни он скопил «до пяти тысяч рублей, отдал их заживо в Невский монастырь и приобрел себе за них там место для погребения». Неженатый Акакий Акакиевич только во время изготовления шинели ощущает полноту жизни, «как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу»[25 - Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 3–4. С. 120.]. Но неженатый герой претерпевает неудачу и с шинелью. Личная жизнь Осипа Ивановича складывается внешне так же неудачно: имея намерение жениться, он все-таки не смог найти себе жену: «все искания и старания его остались безуспешны; его только раза два одурачили и этим вовсе отбили охоту пускаться на такие сомнительные поиски». Но никакой трагедии в жизни этого героя не происходит.
Гоголь в «Шинели» показывает трагизм судьбы «маленького человека», а Даль в «Жизни человека…» утверждает, что никакого трагизма в этой жизни нет. Недаром поэтому, кажется, Осип Иванович в своем дневнике описывает «одного пьяного, которого городовой вез на дрожках; мужик лежал навзничь, поперек дрожек, глядел на небо и, указав туда же пальцем, сказал с чувством: "Служивый – а служивый! Все там будем!"» В день своих пятьдесят шестых именин Осип Иванович вновь вспомнил эти слова, а вскоре после этого и умер.
Даль использует линейные и циклические мотивировки человеческого поведения общими закономерностями возраста, уже отмершие к началу 1840-х гг., не потому, что он, родившийся в 1801 г., впитал их еще в ранние годы своей молодости, но потому, что в данном случае это был сознательный прием в полемике с Гоголем. И повесть «Жизнь человека…» следует поэтому рассматривать как рассказ об общих закономерностях человеческой жизни, следование которым стирает трагизм неурядиц жизни частной. Это, конечно, не означает, что Даль не ценил гения Гоголя. Но и ценя гоголевский гений, он шел в литературе своею дорогой.
Название повести «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о собственном своем житье-бытье за первую половину жизни своей» интересно во многих отношениях. Мы видим здесь традиционное для литературы конца XVIII – начала XIX в. истолкование «первой половины жизни» как тридцатилетия: уже во вступлении к тексту герой заявляет, что поведет свой рассказ об «уроках, коими наделяла меня судьба постоянно в течение тридцати лет, считая с самого рождения». Такое указание есть и в одновременно написанной повести «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту».
Как и в «Жизни человека», этапы жизненного пути отмечаются передвижениями в пространстве. В «Жизни человека» они отмечались перемещением героя из здания в здание, от одного конца Невского проспекта в другой и обратно. В «Вакхе» перемещение героя не столь строго ориентировано в пространстве: здесь пространственные вехи перемежаются с социальными ориентирами, например: «От сотворения моего и до барской прихожей» (1-я глава), «От барской прихожей до француза с отмороженными ногами» (2-я глава). На этом фоне название главы «От метлы с фонарем и до самого полковника и дальше…», которое так не устроило Тургенева, не содержит в себе ничего особенного, хотя, в известной мере, Тургенев, конечно, прав: такие заголовки сильно отдают булгаринщиной, дешевой игрой с читателем с целью привлечь его внимание, и поэтому они лишены подлинного юмора. Но если рассматривать эти заголовки как обозначение вех в жизни героя, то все становится на свои места. «Метла с фонарем» – это только с первого взгляда смешно по-булгарински. На самом-то деле это должно быть осмыслено читателем и должно стать ему смешным по-гоголевски: ведь и у Гоголя в «Невском проспекте» героя заменяла вещь, откуда и рождалась идея обманчивости Невского проспекта.
Итак, в повести про Вакха Даль мотивирует жизнь человека возрастом и возрастными изменениями по типу «пора пришла – она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено». Однако в начале 1840-х гг. такие принципы изображения человека заменяются поисками в области соотношения человека и среды. Можно было бы сказать, что на место понимания человека как природного явления приходит понимание его как явления социального. Что же на этом фоне делает Даль?
Даль наделяет обе повести двойными названиями: «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о собственном своем житье-бытье за первую половину жизни своей», «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту». Герои обеих повестей – люди без роду, без племени, но амплитуда колебаний и последовательность смены их социального статуса различна. В «Жизни человека» герой переходит от статуса мещанина в статус чиновника. Герой «Вакха» чаще и радикальнее меняет свой статус: то мещанин, то крепостной раб, то солдат, то кантонист, то медик в чиновничьем звании, которое давало личное дворянство. Но есть и еще более важное различие между ними. Судьба Осипа Ивановича рассказана сторонними глазами, сам бы он не смог о себе (тем более так) рассказать, не будучи наделен рефлексией и самосознанием (в этом смысле он весьма похож на Акакия Акакиевича Башмашкина). Вакх же Сидоров (не Сидорович!) Чайкин – рефлектирующий человек, наделенный чувством собственного достоинства и вполне способный сам рассказать о своих приключениях.
Неспособность Осипа Ивановича к рефлексии, как можно предположить, связана с его инвалидностью: он недаром наделен врожденным физическим недостатком – горбом, который в какой-то мере корреспондирует с недостатками его интеллектуального развития (связь физического недостатка с интеллектуальным – черта в высшей степени архаическая). Ограниченность Осипа Ивановича проявляется не только в том, что он, переписывая бумаги, совершенно не понимает их смысла, но и в том, что он не может выйти за пределы Невского проспекта.
Совершенно иным выглядит Вакх. Это самый первый в русской литературе тип героя-разночинца, который гордится своим происхождением и не стесняется своего отца-мещанина, зарабатывающего на хлеб чеботарным мастерством. Он был принципиально новым в литературе начала 1840-х гг. И тот же Тургенев, наверное, иначе должен был бы оценить повесть Даля, если бы предполагал, что на рубеже 1850— 1860-х гг. он сам создаст своего разночинца Базарова, который гордо и с вызовом называл себя Евгением Васильевым (не Васильевичем!). Вакх Сидоров Чайкин предвосхитил Евгения Васильева Базарова и в том, что он окончил петербургскую Медико-хирургическую академию значительно раньше, нежели его знаменитый последователь, и так же, как и он, зарабатывал на жизнь уроками.
Однако Тургенев отнесся к повести весьма критично и даже достаточно неожиданно подметил в ней начало, которое мы назвали булгаринским. Такое истолкование не было несправедливой выдумкой критика. В «Иване Ивановиче Выжигине» главы имели названия такого типа: «Я узнаю короче Вороватина. Подслушанный разговор. Предчувствия. Капитан-исправник», которая в исполнении Даля могла бы звучать так: «От Вороватина до капитан-исправника». Булгаринское начало можно отметить и в том, что оба героя начинают свой жизненный путь сиротами в составе помещичьей дворни, терпя всяческие унижения и не получая настоящего воспитания, хотя у Булгарина это выражено более «жалостливо», а у Даля внешне более нейтрально, а по сути более сурово. В «Жизни человека» герой также является на свет сиротой, и хотя он сразу же получает более высокий социальный статус и воспитывается в условиях достатка и родительской заботы, автор подчеркивает одиночество героя. После смерти приемного отца приемная мать Осипа Ивановича уезжает на родину – в Германию, оставляя его одного в Петербурге, к чему он явно не подготовлен. Вопрос о переезде Осипа Ивановича вместе с приемной матерью не стоит, и эта последняя, не имевшая своих детей и относившаяся к нему с материнской лаской и заботой, даже не предлагает ему сопроводить себя.
Внешнее сходство между Далем и Булгариным не стоит, конечно, объяснять тем, что обе повести (особенно «Вакх») – это подражание Булгарину или полемика с ним. Романы Булгарина и повести Даля несут в себе явные отголоски плутовского романа, но герои Даля – не плуты, они не организуют свою жизнь, но только претерпевают ее, приключения случаются с ними, а не они устраивают приключения или ввязываются в них. Все, что происходит с героями и как это происходит, не зависит от них самих. Осип Иванович не сделал ничего, чтобы достичь своего положения, все получалось помимо его намерений и воли. Вакх Чайкин совершает те или иные поступки вполне сознательно и даже добивается определенных результатов, но многочисленные повороты его судьбы совершаются так же помимо его воли. Все у них происходит вдруг и случайно.
Недолгая жизнь плутовского романа в русской литературе первой половины XIX в. достаточно хорошо описана[26 - См.: Переверзев В.Ф. У истоков русского реалистического романа // Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма. М.: Современник, 1989.], однако имя Даля в связи с этой жанровой разновидностью романа никогда, кажется, не упоминалось. Между тем даже наших наблюдений достаточно, чтобы заметить эту связь. Однако плутовской роман в транскрипции Даля осложнен важной литературной традицией философского европейского романа в духе Вольтера. Герой «Вакха» говорит, что описывает свою жизнь за первые тридцать лет, но в повести на малой площади рассказано о таком количестве событий и героев, которое с трудом помещается в этот временной отрезок. При этом герои появляются по требованию сюжета, словно джины из бутылки: либо чтобы произвести пагубное действие на главного персонажа, либо чтобы выручить его из беды. Вот только один пример: когда Вакха во второй раз хотят отдать в солдаты, военным приемщиком и наблюдающим за процедурой случайно оказались ротный командир и полковник того полка, где ранее служил Чайкин, почему оказалось возможным исправить ситуацию и освободить его от приема. Это совершенно непривычно для традиционного бытового романа, но для плутовского романа с элементами философской конструкции это вполне нормально.
Столь же странно с точки зрения бытового романа и вполне в духе плутовского и авантюрного организовано и время в «Вакхе». Находясь в первой службе, герой случайно встречает бродягу-мещанина, который рассказывает, как лет двадцать назад он крестил Вакха. Итак, от этого времени до конца повести должно пройти десять лет. Как же они прошли? По окончании службы герой живет по-прежнему при полку и взаимно влюбляется в свояченицу своего полковника Грушу. Хотя семья полковника спокойно принимает у себя отставного унтер-офицера из мещан, но все же не может спокойно отнестись к возможному мезальянсу, поэтому полковница, сестра Груши, предлагает Вакху покинуть их. Намереваясь ехать в Петербург, чтобы получить там образование, Вакх на год застревает в родном Комлеве, но, не скопив достаточных денег, еще год проживает у одного помещика, якобы обучая его детей. Сколько времени Чайкин обучается в академии, он не говорит, однако мы знаем, что срок обучения там составлял четыре года. По окончании академии герой служит по медицинской части в Алтынове два года и тут случайно встречает своего отца. Вскоре после этого Вакх выходит в отставку и поступает в больницу, которую организовали несколько соседских помещиков; здесь, проживая в деревне со своим отцом, он и встречает свое тридцатилетие. «В тридцать лет люди обыкновенно женятся»[27 - Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. XIV. С. 151.], – считал Пушкин, что вполне согласовалось с принятой в России традицией. Надумал жениться и Вакх Чайкин. Тут кстати помог и француз, воспитавший его самого, так как француз этот (как джинн из бутылки и, очевидно, потому, что других французов-воспитателей в это время в России не нашлось) случайно оказался весьма кстати воспитателем у младших детей чайкинского полковника. Он сообщил, что все еще любимая нашим героем Груша все еще не вышла замуж. Взвесив обстоятельства, Чайкин через француза делает предложение и получает согласие. Так на тридцать первом году жизни он составил свое счастие. Если сложить все годы, проведенные Вакхом после службы и до получения места в деревенской больнице, то мы получим десять лет. С этой стороны все сходится. В течение этих десяти лет наш герой по-прежнему продолжал, оказывается, любить Грушу, хотя в повести нигде об этом не говорится. Но более того, Груша тоже, оказывается, продолжала любить Чайкина.
И тут мы должны задать вопрос: сколько было и сколько стало лет Груше? Вот как отвечает на это Чайкин, глядя на портрет Груши, присланный ему французом: «Личико это было то же, как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете всего лет пятнадцать или шестнадцать». За десять лет жизни Вакха Груша прожила всего шесть или семь лет. Ясно, для чего это нужно в данном месте автору: требуется мотивировать возраст героини. Если к пятнадцати-шестнадцати годам прибавить шесть-семь лет, то мы получаем, что Груша к моменту своего замужества находится в возрасте между двадцать первым и двадцать третьим годом. Вполне нормальный возраст для девицы на выданье: уже достаточно критичный, но еще молодой. Но если мы к тем же пятнадцати-шестнадцати годам прибавим реальные десять лет, то получим уже двадцать пять – двадцать шесть лет, время, по нормам XIX в., стародевичества.
С этой Грушей связана и еще одно внутреннее противоречие. Когда она влюбилась в Вакха, к ней посватался один полковой офицер, и она ему отказала, что весьма смутило родственников Груши. Однако если бы возраст героини был указан в своем месте, то этот отказ выглядел бы вполне оправданным, а брачное предложение – слишком преждевременным, так как хотя такие браки и случались, но все-таки не были нормой. Груша в «Вакхе Сидорове Чайкине» выполняет ту же роль, что Кунигунда в «Кандиде» Вольтера. Она стареет, но если Вольтер обнажает этот факт, то Даль скрывает его.
Я вовсе не хочу сказать, что в своем произведении Даль ориентируется на Булгарина или Вольтера. Для создания этой конструкции достаточно было чувствовать традицию жанра. Воспитанный на культуре конца XVIII – начала XIX в., Даль, несомненно, читал и Нарежного, и других авторов плутовского романа. Он воспроизводит конструкцию жанра, а не подражает тому или другому автору. Поэтому герой Даля не обусловлен окружающей его средой, вставные эпизоды в повести (иногда довольно пространные) только внешне напоминают физиологические очерки, а по существу являются вставными новеллами приключенческого романа.
АНЕКДОТИЧНЫЙ СЛУЧАЙ И АНЕКДОТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В коллективной монографии об истории русской повести XIX в. упомянута только одна повесть Даля – «Хмель, сон и явь». Характеристика и оценка ее подчинены давлению времени: «Достоинство повести заключается в сознательном стремлении автора разрабатывать крестьянскую тему как тему, равноправную со всеми другими. <…> Однако достоинства этого и других произведений ослабляются морализующей тенденцией, неумением раскрыть подлинные социальные причины "порчи нравов" в деревне»[28 - Мейлах Б.С. Теоретическое обоснование жанра повести натуральной школой // Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. Л.: Наука, 1973. С. 258.].
Даль ведет свой рассказ очень неторопливо: из двадцати страниц первые три целиком посвящены разным видам отхожего промысла в малоземельных губерниях России, и только после этого он переходит к семье плотников Воропаевых. Наконец мы подходим к завязке сюжета: отец Воропаев жалуется деду Воропаеву на внука, «что он-де стал ни с того, ни с сего погуливать и немало денег пропил». «Гневно вскинулся дед на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и заклинался, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не возьмет». А дед сказал: «Гляди, Степан, коли ты у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то Господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе».
Уйдя в марте месяце на заработки, Степан долго крепился, но однажды все-таки старый приятель, содержатель постоялого двора, подпоил его, чтобы выведать, есть ли у Степана деньги. Когда легли спать, Степану приснился «страшный сон»: «родной дед его <…> хотел его зарезать за то, что внук напился пьян. <…> Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух». Случайно проснувшись, Степан услышал, как жена хозяина упрашивала его не брать греха на душу и не убивать гостя из-за денег. Он срочно уезжает, но его нагоняет хозяин постоялого двора и замахивается на него цепом. Увернувшись от удара, Степан выхватывает цеп, бьет по нападающему и нечаянно сам убивает его. Испугавшись, Степан прячет труп и уезжает. На обратном пути он заезжает на постоялый двор проверить, известно ли уже про случившееся, но хозяйка не пускает его, говоря, что хозяин исчез, а при нем было сто рублей денег. Эти слова соблазнили Степана, он вернулся на место происшествия и взял деньги. С этими шальными деньгами Степан стал «погуливать», так что «под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и вычел еще с него за прогул по целковому за день; пошел он к другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал».
Нашел себе Степан нового хозяина и с одним приятелем, Гришкой, таким же любителем выпить, пошел на заработки. По дороге Степан с Гришкой напились, а потом, как водится, подрались. Проснувшись на берегу Волги один, Степан решает, что он в драке случайно убил своего товарища и, считая себя грешником, доносит на себя. Степана приговорили к каторге, но прокурор уголовной палаты долго думал, утверждать ли приговор, основанный только на том, что человек сам на себя донес. Пока он думал, Гришка случайно отыскался и его случайно же идентифицировали с мнимо убитым. Степана оправдали, но он решил сознаться в другом убийстве, однако ему не поверили и отпустили.
После всех этих приключений Степан перестает пить. Еще уходя из дома на заработки, Степан с родичами планировал по возвращении жениться и нашел себе невесту. Полтора года Степан, будучи в отходе, не слал домой денег; не менее полугода шло следствие. Таким образом, наш герой был пропавшим без вести около двух лет. А «перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с саженью в руках; отец и дед его благословили, а Машка Сошникова, ныне Воропаева, готовила ему <…> щи да кашу». Машка – это, видимо, та самая девка, которая и планировалась в жены Степану несколько лет (минимум два года) назад. Но едва ли крестьянская семья не отдавала замуж девку в возрасте; это не точно ни фактически, ни психологически. Машка, как и героиня повести «Вакх Сидоров Чайкин», ожидает своего возлюбленного столько времени, сколько нужно по законам художественного творчества, а не по законам реальной жизни. В художественном мире такие сдвиги времен – самое обычное дело. Но в повести, которую два тонких ценителя назвали психологически достоверной, это представляется не вполне уместным.
Белинский и Некрасов ценили «Хмель, сон и явь» как «психологический портрет русского человека, мастерски схваченный с натуры», как «психологический взгляд на натуру русского человека, весьма проницательный». Действительно, в «Хмеле» Даль едва ли не впервые в русской литературе дал психологический портрет русского мужика без сусальности и без той снисходительной иронии, с которой он изображал дворников и денщиков.
Но «Хмель» – это все же анекдотичный случай в упаковке анекдотического очерка. Это анекдотичный случай, потому что все в нем разворачивается вдруг, случайно. Случайно Степан проснулся и подслушал разговор, случайно ему удалось увернуться от удара и ударить самому, случайно познакомился с Гришкой и не убил его и случайно же этот Гришка отыскался в самый нужный момент, наконец, случайно судьи не поверили признанию Степана во втором убийстве. Смешного тут, может быть, и немного, зато все анекдотично. И написан этот случай как анекдотический очерк: все жизненно достоверно, но все подано несколько отстраненно, без сочувствия герою и без сопереживаний. Все это – случай из жизни.
По модели повести «Хмель, сон и явь» построены и все «Рассказы из русского быта». Они основаны на конкретном бытовом материале, в них нет выдумки, но они и не стремятся раскрыть социальные отношения между людьми, не стремятся показать обусловленность человека средой и мотивированность поступков человека внешними условиями и событиями. Иначе сказать, Даль не был писателем-реалистом, поэтому его произведения и не устраивали критиков-современников, а историки литературы не могли найти ему места в привычных литературных рядах и группировках. «Рассказы из русского быта» – это большой сборник анекдотов в старинном смысле этого слова, сборник рассказов о жизненных парадоксах и эксцессах. Среди них рассказы о национальном характере, о народной нравственности, о нравах дворянства и чиновничества. Несколько меньше рассказов, основанных на народных преданиях или посвященных судьбам отдельных людей. Даль не стремится к социальным обобщениям. Берут чиновники взятки – и берут. Даль констатирует взяточничество как эксцесс, но не обличает взяточничество как социальное явление, не анализирует его причины и следствия. В этом его принципиальное отличие от реалистов. И чтобы понять Даля, надо прочитать его в ином ключе, чем мы читаем И. Тургенева и Л. Толстого, М. Салтыкова и даже Ф. Достоевского. Только тогда мы поймем подлинное значение его как писателя.
М.В. Строганов
Повести
К. Гефтлер. Вид Невского проспекта и Адмиралтейства
Бедовик
Глава I
Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу
В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.
Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до 75 раз в году, если не более. Он свято исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.
М. Добужинский. Провинция
Евсея Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид – и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день, другой, поработать – принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это, – думал Евсей Стахеевич, – кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам намедни слышал, как прокурор наш, например, попенял очень недвусмысленно одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе: "Вы, сударь, – сказал прокурор, – с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по воскресеньям не уважаете…" Что же тут станешь делать? Поедешь поневоле».
Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты, и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: у себя, принимают, или: выехали-с, не принимают, а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени – все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать рассуждать про себя, тем более что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.
«И как это глупо, бестолково, – так думалось ему, – ну пусть бы уже раза два, три в году, коли это необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то – каждое воскресенье, каждый Божий праздник.
Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю, можно ли принять с повального согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сек нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуши: «Не я бью, сам себя бьешь». То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя. Он морщится, и я морщусь, – а между тем, как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям, я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок.
И пусть бы еще наш брат, мелочь, ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресеньям не уважаете начальства», а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым, словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням…»