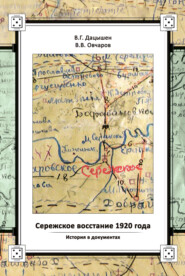По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки истории Монголии в XIX – первой четверти ХХ вв
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. В числе беженцев были и чахар-монголы. Цинские власти, по свидетельству современников, еще как-то заботились о маньчжурах, а семьи монгольских солдат были брошены на произвол судьбы. Беженцы вынуждены были обратиться за помощью к русской власти, а некоторые даже согласиться на переход в русское подданство. Например, около 800 человек из числа прибывших в 1867 г. в Копал 4 тыс. семей калмыков, чахар-калмыков, дауров, солонов, сибо, манчжуров и китайцев приписали к станице Сарканской и расселили в четырех верстах от поселка
. К 1870 г. русское подданство приняли 8240 «кочевых калмыков»
.
Часть беженцев, включая и чахар-монголов, приняли крещение. В 1868 г. епископ Томский Алексей крестил в Копале 19 беженцев из Китая, в числе которых были монголы дауры и китайцы. Всего в 1868 г. в Копальском уезде было крещено 588 человек, а в последующие годы число крещенных беженцев из Синьцзяна достигло 721 человек, из которых китайцев и маньчжур было только 24 человека
. По данным миссионера В. Покровского, в 1874 г. в Сарканском приходе числилось 98 новокрещенных чахар-монголов
. Всего, по данным Верненского комитета, православие приняли 600 «калмыков»
.
Опыт пребывания под русской властью монгольских беженцев оказался не продолжительным. По мере восстановления Цинской власти в Синьцзяне в 1870-х гг. семьи знаменных войск возвращались на родину, а кроме того, бежали из русских станиц и новокрещеные казаки, так и не принятые русским казачеством в свое сообщество. Тем не менее, в Семиреченском казачестве, вероятно, осталось некоторое число бывших монгольских беженцев, и в середине 1890-х гг. среди этих казаков встречаются калмыки, наряду с татарами и солонами, жившие преимущественно в станице Сарканской
. По данным переписи 1897 г. в Лепсинском уезде Семиреченской области 46 мужчин и 43 женщины православного вероисповедания указали в качестве родного языка монгольские языки, к той же категории отнеслись 28 человек в Верненском и 7 человек в Копальском уездах.
Вернувшись в Синьцзян, чахар-монголы продолжали нести службу на границе. В «Журнале военных и политических событий и слухов на границе Семиреченской и Семипалатинской областей с провинцией Западного Китая за 1884 год» отмечалось: «охранительную службу у китайцев несут сибинцы, солоны и калмыки, вооруженные стрелами и палками, вполне несоответственно. Днем и то не всегда проедет два три человека по границе до соседнего поста, заедут иногда на наши посты обменяться приветствиями и возвращаются обратно в свои инпаны, а с наступлением ночи запираются в них до утра»
.
К концу XIX в. по данным российского консульства в Кульдже военно-служилое население (взрослое мужское) Илийского края включала 28 тыс. монгол (менее половины из которых приходилось на собственно чахар)
. По данным российского офицера в 1900 г. в приграничной с Россией долине реки Боротола находилось 16 сумонов чахарского населения по 200 юрт в каждом сумоне
. Для пограничной службы чахарское население выставляло две сотни солдат
.
После свержения гибели Цинской империи чахар-монголы, утратившие привилегированный статус военно-служилого сословия, перешли в категорию нацменьшинств, проживавших на окраинах Китайской республики. Ликвидация военно-административной организации привела к усилению процессов сближения с родственными и проживавшими по соседству этнокультурными группами монгольского населения. При этом в Синьцзяне чахар-монголы оказались в составе «западно-монгольской» этнокультурной общности. Заведующий переселенческим делом в Семиречье С.Н. Велецкий писал: «Кочевому населению, по численности принадлежит первое место и его составляют киргизы и калмыки… Калмыки принадлежат к монгольской расе. Они делятся на четыре рода: а) чахары, кочующие по р. Бороталы; б) торгоуты.»
.
Несмотря на новую ситуацию, чахар-монголы сохранили характерные особенности своей группы в новой политической реальности, они оставались наиболее лояльной по отношению к пекинской власти частью монгольского населения Китая. Например, в 1921 г., согласно воспоминаниям Ф. Оссендовского, китайский комиссар Улясутая Ван Сяоцун направил в Туву, «на завоевание сойотов», именно отряд чахар, отличавшийся жестокостью и бесстрашием
. Этот факт был зафиксирован и советской разведкой. Следует признать, что чахар-монголы активно не поддержали борьбы халха-монголов за независимость от Китая. Подобная ситуация была обусловленная тем фактом, что на протяжении почти трех веков чахар-монголы находились в составе единой «корпорации» восьмизнаменного сословия совместно с тунгусо-маньчжурскими народами и военно-знаменными ханьцами.
Таким образом, чахар-монголы сыграли важную роль в истории международных отношений в Центральной и Восточной Азии. При этом, высокий уровень вовлеченности в политические процессы развития Китайской империи обусловили вхождение их в состав Китайской Республики, и не позволил чахар-монголам создать собственное государство или присоединиться к Автономной Монголии.
Глава 3
Монголия во время военного конфликта между Россией и Цинской империей 1900 г.
Начало ХХ в. международные отношения на Дальнем Востоке встретили в состоянии тяжелого кризиса, вызванного антииностранным восстанием в Китае. Кризис перерос в прямое военное противостояние между Цинским правительством и иностранными государствами. Летом 1900 г. Пекинский двор объявил войну России, а Санкт-Петербург направил в Цинскую империю войска общей численностью до 100 тыс. человек.
Кризис в русско-китайских отношениях напрямую не был связан с русско-монгольскими отношениями. Но монголы были обязаны военной службой Цинскому двору, а часть монгольского населения входила в состав военно-служилого восьмизнаменного сословия, из которого формировалась цинская гвардия. Кроме того, монгольские земли находились на приграничных с Российской империей территориях. Таким образом, война 1900—1901 гг. не могла не затронуть Монголии и русско-монгольских отношений.
Летом 1900 г. почти вся Монголия оказалась в «окружении войны». От Калгана до Хайлара вдоль ее восточных границ шли боевые действия. На территории примыкавших с юга к Монголии китайских провинций Шаньси и Чжили (Хэбэй) ихэтуане и части Цинской армии воевали против объединенных сил 8-ми держав.
Не спокойно было и на других границах Монголии, в Сибири и Приамурье русское правительство провело полномасштабные мобилизационные мероприятия. 9 июня 1900 г. было принято решение о переводе войск Приамурского военного округа, в состав которого входило все Забайкалье, на военное положение, а так же о призыве 12 тыс. запасных из Сибирского военного округа. Мобилизация началась 11 июня 1900 г. и явилась первым полномасштабным мероприятием подобного рода на границах с Цинской империей. 8 июля 1900 г. было принято решение о переводе на военное положение войск Сибирского военного округа и Семиреченской области Туркестанского военного округа.
Российские власти летом 1900 г. срочно занялись укреплением всей линии границы с Монголией. В Саянах и Алтае были проведены мероприятия по организации самообороны местного населения. Например, населению Сибирского казачьего войска было отпущено по 25 винтовок с патронами на каждый степной поселок. Среди казачьего населения Енисейской губернии были организованы три специальных дружины, населению было роздано 200 винтовок и 10 тыс. патронов.
Летом 1900 г. Пекин планировал использовать силы Монголии в конфликте с Россией. Тем более, именно Монголия прикрывала Пекин с севера от возможного наступления российской армии. Уже 5 июня
Цзюньцзичу (высший военный орган власти Цинской империи) направил Чахарскому дутуну Сян Лину приказ проверить слухи о наступлении русской конницы с запада, провести разведку и сообщить об этом в соседние территории . Через несколько дней приказ был повторен, но уже с требованием срочно укрепить район и постоянно держать под контролем северное направление
. В июне Суйюаньчэнский цзянцзюнь (генерал-губернатор Южной Монголии) Юн Дэ, согласно приказа из Пекина, отправил на север, в Монголию по шести направлениям разведку.
В это же время на границу Монголии в Калган была отправлена из Шаньси армия Вань Бенхуа
.
Собственно маньчжуро-китайских войск на монгольских землях было не много. На территории Внешней Монголии имелись небольшие цинские гарнизоны в годах Улясутай, Кобдо и Урга. В Кобдо, например, в 1900 г. маньчжурских знаменных войск было немногим более 270 человек офицеров и солдат
. В Урге в 1900 г. имелось до 250 китайских солдат. Но кочевое монгольское население только Халхи в случае мобилизации могло выставить многочисленную конницу, 26400 человек (по 75 человек от сумона).
В июне 1900 г. во Внешней Монголии были проведены некоторые военные мероприятия. К Улясутаю выступил отряд в 700 чел. знаменных войск, а местный цзянцзюнь Лянь Шунь попросил прислать из Пекина дополнительно 2 тыс. чел. войск. 26 июня 1900 г. Улясутайскому цзянцзюню был отправлен императорский указ, предписывающий ему и Ургинскому амбаню (Кулуньский баньшидачэн) Фэн Шенъэ оставаться на местах и защищать районы от возможного русского наступления. В Пекине считали, что «российских войск очень много, поэтому они обязательно приедут по разным путям»
. Цинским чиновникам приказывалось сообщить главам халхаских аймаков, чтобы те подобрали самых сильных мужчин и подготовили их для защиты границ. Подобные указания были отправлены и в Кобдо, амбаню Жуй Сюню предписывалось действовать совместно с руководством провинции Синьцзян и остановить наступление врагов. В документе говорилось, что «было бы хорошо, если бы они смогли сковать врагов»
, хотя и не детализировалось это пожелание.
С другой стороны, Пекин планировать усилить воюющую против иностранцев в столичном районе армию за счет монгольского ополчения. Улясутайский цзянцзюнь собрал до 4 тыс. человек монгольской конницы, но Лянь Шунь, докладывал о их низкой боеготовности. Ургинский амбань призвал на службу 2 тыс. монголов и расположил их вокруг города. Амбань Кобдо приказал мобилизовать монголов и организовать их обучение. Были отданы распоряжения о запрещении экономических отношений с русскими, выделены деньги для монгольских лидеров, которым было приказано провести мобилизационные мероприятия. Однако Жуй Сюнь не верил монголам, он докладывал: «Я еще боюсь, что Монголия думает только о выгоде … я боюсь, что они нарушат приказ»
. Как и предполагалось, монголы не были настроены на войну с русскими, это подтвердили события в Кобдо, где призванные всадники взбунтовались, перебили маньчжурских офицеров и разбежались.
Движение ихэтуаней нашло поддержку лишь среди китайского населения Монголии. В Улясутае летом 1900 г. было собрано до 1 тыс. китайцев-торговцев, для которых были организованы учебные стрельбы. Из местных чиновников наибольшую активность в деле подготовки обороны вверенных территорий проявили глава Кобдо и Улясутайский цзянцзюнь. Амбань Жуй Сюнь установил связь с Синьцзяном, и попросил отправить несколько тысяч маньчжурских солдат на защиту Кобдо, он просил, чтоб император поддержал это решение своим приказом. Цзянцзюнь Лянь Шунь просил у Пекина два батальона конницы и батальон пехоты. 12 июня 1900 г. консул Я.П. Шишмарев доносил из Урги, что монголы пассивно воспринимали события в Чжили, агитацию вели лишь китайцы. Монгольские власти не выполнили указ императора о закрытии Монголии для горнопромышленной деятельности иностранцев. Правда, Я.П. Шишмарев позже все же отправил несколько телеграмм о развитии напряженности в Урге.
Мобилизационные мероприятия затронули районы Южной Монголии, тем более, там монголы входили в состав восьмизнаменного войска. Суйюаньченский цзянцзюнь Юн Дэ отмобилизовал восьмизнаменные войска, приступил к военным учениям и наметил пути их движения на встречу возможного русского наступления. Однако Юн Дэ полагал, что сам он с частью войск должен был идти к Пекину. Фудутун Жэхэ Сэ Лэнъэ, наоборот, не выполнил приказ отправить все войска в Тяньцзинь.
Из всех монгольских территорий полномасштабные военные действия затронули только Баргу, входившую в состав провинции Хэйлунцзян. 28 июня 1900 г. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков приказал образовать отдельный отряд под командованием генерал-майора Н.А. Орлова для занятия Хайлара. Этот отряд, численностью в 5 тыс. чел., 12 июля перешел границу и вышел на станцию Далайнор. 13 июля отряд штабс-капитана Бодиско захватил в плен 50 монголов. Первый крупный бой произошел за станцию Онгунь 16—17 июля, где русским войскам противостояло до 10 тыс. чел., в основном монгольской конницы. Вскоре цинские войска в Барге были полностью разбиты, и русский отряд продолжил наступление по КВЖД в сторону Цицикара.
В начале июня 1900 г. антииностранное движение достигло границ Южной Монголии, создав угрозу не только русским интересам, но русскому населению на «Кяхтинском пути». 3 июня 1900 г. командующий войсками Квантунского полуострова доложил в Санкт-Петербург, что не в состоянии помочь калганцам. Через день телеграфная станция в Калгане была закрыта, все русские вынуждены была оставить этот город. Начальник Забайкальского почтовотелеграфного округа докладывал: «Заведующий Кал-ганской конторой Сленцевич телеграфирует из Уддена, расположенного на полпути между Ургой и Калганом, что, вследствие грозящего настроения китайцев, возбужденных расклеенными объявлениями, в ночь на 4 июня вся русская колония вместе… с почтами, не достигшими Пекина, выехали в Ургу»
. 21 июля консул Я.П. Шишмарев сообщал: «Сильное впечатление произвел здесь разгром всего Русского Калгана… К ущербу величия России послужит в глазах монголов всякая неудача наша в Урге»
. В конце июня 1900 г. русский консул уже докладывал: «Монголия призывается к оружию… Вообще положение здесь становится серьезным. Экстренная присылка консульству казачьего конвоя при орудии необходимо»
.
Антииностранное движение в Китае не достигло Халхи, и русская армия в 1900 г. боевых действий на этой территории не вела. Однако военные события в Цинской империи отразилась на общей ситуации в регионе. В Монголии были зафиксированы случаи отобрания долговых расписок у русских купцов, отказа принимать российские деньги. Пытались китайские власти воспрепятствовать эвакуации русских торговцев из Кобдоского округа. На одном из пограничных караулов даже было зачитано предписание задерживать русских и отправлять в Улясутай. Однако в августе 1900 г. все русские торговцы благополучно выехали из Западной Монголии.
Для наступления на Ургу и Калган по приказу Приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова создавался специальный Селенгинский отряд. Однако, благодаря настойчивости русского консула в Урге Я.П. Шишмарева, посылка войск в Монголию была ограничена двумя сотнями, и то в качестве консульского конвоя, остальные войска остались в Троицкосавске. 5 июля 1900 г. помощник начальника российского Главного штаба телеграфировал в Хабаровск и Читу: «Высочайше повелено командировать две сотни в Ургу, снабдив четырьмя комплектами патронов и двухмесячным запасом продовольствия»
.
Отряд казаков под командованием Н.Ф. Домелун-ксена 25 июля 1900 г. встал на бивак недалеко от российского консульства в Урге. Многие в России полагали, что ситуация диктовала необходимость ввода более значительного воинского контингента в Монголию. Н.И. Гродеков писал 26 июля начальнику Главного штаба: «…признаю необходимым поспешить занять Ургу целым 2-м Верхнеудинским казачьим полком… пассивное сидение в Урге только 2-х казачьих сотен не принесет пользы, и цель занятия Урги не будет достигнута»