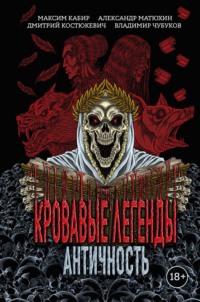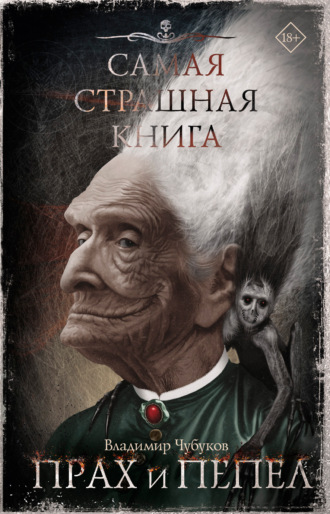
Самая страшная книга. Прах и пепел
Потрясенный и подавленный разум Багрянцева, стоявшего на краю болота, всматривался в свое кошмарное будущее, из которого он-будущий явился к себе-прошлому.
Какая-то неясная, грозная и крайне опасная сила подарила ему возможность бежать в прошлое, найти там себя, вселиться в собственное прошлое тело, а душу, изгнанную из него, переселить в тело, прибывшее из будущего. Короткое время было отпущено Багрянцеву на этот побег, теперь оно на исходе, пора возвращаться.
Багрянцев поразился собственной подлости. Бежать в прошлое, оставить там свою душу, а себя-самого-прошлого запихнуть в это страшное тело, как в ловушку, в клетку, и отправить в будущее, в мучительную вечную тьму. Так поступить с самим собой! Это же… чудовищно. Багрянцев почувствовал, как в ответ на эту мысль его новое тело расплывается в злорадной улыбке.
Он хотел развернуться и уйти прочь от болота, прочь с пустыря, домой, но тело не подчинилось. Оно было сильней его души, оно само знало, где следует быть, куда следует направляться. Душа Багрянцева застряла в этом теле, будто в карцере, стены которого сдавили ее со всех сторон.
Нечто прямо-таки дьявольское почувствовал Багрянцев в этом плане побега в прошлое: подменить там душу и вернуться в будущее с другой душой, пусть собственной, но все-таки другой – более… невинной, что ли.
Пришла на память вычитанная в какой-то фантастической книжке – названия не помнил – идея про путешественников во времени, извращенцев-педофилов, которые отправлялись в прошлое, чтобы найти там самих себя в детском возрасте, а найдя, изнасиловать. Чудовища из будущего набрасывались на свои собственные более ранние и невинные воплощения, чтобы отравить самих себя на корню, нанести себе неисцелимую душевную травму. Нечто подобное, только хуже, творилось с Багрянцевым.
Он не был религиозен, не увлекался мистикой, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в загробный мир, но с детства был любопытен. Наткнувшись в одной книжке на библейское выражение «тьма кромешная», он полез в этимологический словарь Фасмера и узнал оттуда, что «кроме» в Древней Руси означало «вне», «снаружи», и его производное «кромешный», стало быть, значит «внешний», «наружный». Там же был приведен греческий аналог старославянского слова «кромештьнъ» – «экзотерос».
Кромешная тьма – экзотерическая тьма, внешняя тьма, наружная тьма.
Почему она «внешняя» или «наружная», Багрянцев так и не понял. А теперь узнал, что эта экзотерическая тьма действительно настанет в будущем и в это беспросветно-черное будущее он вот-вот отправится, чтобы там окунуться в невыносимо страшный безвыходный вечный мрак.
А его душа, сбежавшая из будущего, останется здесь, в его теле, будет жить его жизнью, смаковать каждую минуту той недолгой свободы, которую, неизвестно на каких условиях, она выторговала себе у неведомых сил. В свое время свобода закончится, тело умрет, душа, выпав из него, сгинет в загробном мире, чтобы потом вынырнуть оттуда, воскреснуть, соединиться с обновленным телом и отправиться в страшную мучительную кромешную тьму, которая пожрет вселенную. Далее петля замкнется, и эта подлая душа опять изберет проверенный метод бегства в прошлое, где вновь поменяется телом с более ранним проявлением себя, чтобы все повторилось, чтобы петля ложилась на петлю, чтобы круг бесконечно замыкался на самом себе.
Омерзение, тошнота, бессильная ярость и ненависть захлестнули Багрянцева.
Было в этой истории кое-что еще, неразгаданное и смущавшее своей откровенной нелогичностью. Если тело в одно мгновение перенеслось из его квартиры сюда, на пустырь, то почему оно с самого начала не использовало свои способности, чтобы так же мгновенно перенестись в квартиру к Багрянцеву? Зачем оно шло за ним, поднималось по лестнице, потом стояло под дверью, которую в итоге с такой легкостью прошло насквозь?
Задавшись этим вопросом, Багрянцев тут же получил ответ, который, похоже, заранее хранился в готовом виде в какой-то ячейке мозга и теперь был выложен перед ним.
Конечно, Багрянцеву-из-будущего не стоило никакого труда возникнуть перед собой-прошлым, где бы тот ни находился. Ночь, пустырь, преследование – все это просто спектакль, необходимый лишь для психологического эффекта. Чтобы подготовить Багрянцева к операции по обмену телами. Страх разрыхляет душу, как почву перед севом, делает ее восприимчивой к воздействиям извне. Поэтому и развернулось представление с фальшивым СМС-сообщением, среди ночи загнавшим на пустырь жадного до мелкой выгоды Багрянцева.
«Ты послало мне эту чертову эсэмэску? – мысленно спросил Багрянцев собственное тело. – Как? С помощью чего?»
И в глубине сознания услышал мысленный ответ:
«Ты не знаешь всех моих способностей. Тебе и не снилась даже малая часть того, что я могу».
«А не возвращаться в будущее, в эту проклятую кромешную тьму, ты можешь?»
«Вот этого не могу, – был ответ. – Есть условия, которые выше меня».
Багрянцев стоял лицом к болоту, всматриваясь в туман, в котором теперь чудилось что-то бездонное. И пронзительное одиночество, будто сверло, вгрызалось в сердцевину души. В тумане тонуло все – пейзаж, звуки, ветер. И скоро сам Багрянцев утонет в этом белесом небытии, утонут мысли, надежды, последняя тень его существа.
Внезапно он понял – знание само всплыло на поверхность разума, – что там, в будущем, он не один, что страшная трансформация постигла многих и многих.
Многих? Миллиарды воскресших людей всех времен и поколений? Но зачем ему знать об этом множестве?
Он усмехнулся. По-настоящему он верил только в собственное существование, и сейчас, в новом теле, эта вера лишь углубилась до своего дна: другие люди для него теперь были не более реальны, чем галлюцинации. Одухотворение телесной материи вовсе не способствовало широте взгляда, напротив, сузило его до крайней точки – до собственного «я». Солипсизм вечной жизни был полон и окончателен. Энергии собственной души и собственного тела стали для Багрянцева координатной сеткой его вселенной.
«Уже пора», – шепнуло внутри.
Тело Багрянцева шагнуло в густой туман. Каждый миг был глотком ужаса, с каждым мигом близилась бездна кромешной и вечной тьмы, провал в которую был где-то рядом, здесь, в тумане, на болоте, до этого провала, возможно, всего шаг.

Андрей Андреевич Багрянцев – тридцать восемь лет, холостяк, дважды разведен, от каждого брака по ребенку, оба мальчики, первый умер в раннем детстве, и правильно сделал, а на второго плевать. Андрей Андреевич вышел из дома солнечным утром. Прищурился на прохладное ноябрьское солнце, зависшее над кромкой гор, обрамлявших город с востока. На работу сегодня, конечно, не идти. К чертям эту сраную работу! Отныне он свободный человек, никаких обязательств ни перед кем. Разумеется, кроме той силы, что устроила ему побег из бездны. С этой загадочной силой шутить нельзя. Природа ее неясна, но могущество вполне подтвердилось тем, что она смогла устроить побег из будущего, и не для одного Багрянцева, но еще для многих других, которых не счесть. Эта сила действовала с умопомрачительным размахом, продуманно, педантично и планомерно. Ее план охватывал все времена и народы. Беглецы из будущей бездны возвращались в бесчисленные точки на шкале времен, от глубокого прошлого до отдаленного будущего. Возвращались всегда. Не было такого года в истории человечества, чтобы не возвратился кто-нибудь, один или несколько человек, бежавших от будущей кромешной тьмы и вечного мучения в ней. Всегда происходили подмены, подобные той, что случилась с Багрянцевым. И все беглецы обязались расплачиваться за свое бегство, каждому были поставлены условия.
Впрочем, условия такие, что исполнять их будет одно удовольствие. Те, кто ставил эти условия, знали, что и с кого можно потребовать. На какое безумие и на какой ужас каждый способен.
Главное, не попасться в самом начале. Смертной казни здесь нет, и это хорошо. Но будет мучительно стыдно перед самим собой, если, прикончив и сожрав всего лишь одного человечишку, не рассчитаешь все как надо, сглупишь и позволишь себя поймать. Все равно что глотнуть какого-нибудь дорогущего коньяка или виски, над которым дегустаторы закатывают глаза в экстазе, и тут же все выплюнуть. Нет, попадаться на первой жертве никак нельзя, не дай бог!
При мысли о «боге» Андрей Андреевич усмехнулся.
Ничего, это только первая петля обратного времени таит в себе подвохи. Пройдя ее, он войдет во вторую петлю и снова вернется назад, и тогда уже, все помня, сможет повторить безопасные ходы, исправить недочеты, отточить действия. Вот так, виток за витком, он достигнет совершенства, подобно музыканту, хорошо разучившему партию своего инструмента, и каждый его шаг будет звучать как музыка, закольцованная в петлях вечного возвращения.
Выя

Священник Лев Филимонович Разговеев, настоятель Свято-Успенского храма в Нижнем Пороге, овдовел рано, тридцати двух лет, в 1911 году. Мало того что супруга его, Анастасия Игнатьевна, была бесплодна, на горе себе и мужу, так еще и скончалась от мудреного мозгового недуга, настрадавшись пред смертью болезненными припадками в сопровождении страшных галлюцинаций.
Над телом ее отец Лев выл с горя по-звериному, едва не рычал. Дикий взгляд его, в обрамлении взлохмаченной гривы, был страшен. Белки глаз обжигали гнилостной белизной. Зрачки зияли, как провалы в загробный мрак. Губы червиво шевелились, когда нечеловеческие звуки полыхали меж них. Пальцы правой руки царапали ногтями, до кровавых полос, левое запястье, и обратно – левая рука немилосердно терзала правую.
Родные – сестра с мужем, часто навещавшие отца Льва, – опасались за его рассудок, и не напрасны были опасения. Священник и впрямь помешался; благо, что временно.
После почти трехнедельного помрачения он пришел в себя, однако некоторая как бы мистическая рассеянность занозой сидела на дне взгляда. И несвойственные прежде нетерпеливость с раздражительностью прозябли в его характере, наподобие сорных трав.
Раз как-то своего прихожанина, долго повествовавшего на исповеди о своих согрешениях за прошедшие пару месяцев, отец Лев оборвал раздраженно на полуслове:
– Да хватит уже! Утомили! Лучше скажите, что грешны и отовсюду недостойны – и с вас довольно. А то, право, неприятно слушать. Французский роман какой-то.
Вскоре прихожане смекнули, что батюшка к длинным исповедям не расположен, посему старались не утруждать его словесами многими, но приносили покаяние пред ним в кратких речениях, часто сводившихся к одному только «грешен» или «грешна, о-ой, грешна».
Проповеди отца Льва сделались скучны. Как сухие травы, мертво колыхались они, когда выходил на амвон священник, уста отверзая для поучения.
Раз только пробежало некое оживление по звукам его проповеднической речи, то было в Великий Пяток тринадцатого года, после выноса плащаницы, стоя перед которой, батюшка сказал прихожанам:
– Висел на кресте Христос да и прокричал: «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси». Видите, стало быть, и его Бог оставил. Мрачно, наверное, страшно и пусто было у него на душе. И холодом веяло в ней. Так идешь, бывает, зимой чрез мертвое поле, а сверху давит ночь, и кругом ни огонька, ни следа человечьего. И – камнем, плитой могильной – одиночество на плечах твоих. Поневоле завыть хочется в ужасе и тоске.
А как поползла по России трещина от войны, начавшейся в четырнадцатом году, и разинулась наконец в революцию, и царь отрекся от престола, то всклубилось нечто смутно-тревожное и радостно-мрачное внутри отца Льва. Чернота неба, просверленная блеском звезд, казалось, приникла сверху огромной звериной тушей, навалилась, объяла, и было жутко – что задавит, и тут же радостно – что можно сцапать рукой звезду и вобрать небесной тьмы полную грудь.

В апреле двадцатого года, когда ворожил цветущий мир, кадил ароматами, вышивал птичьими трелями по кисельному воздуху, когда от сладостных предчувствий ныло сердце всякой твари, – тогда пришел отец Лев к председателю Нижнепорожской ЧК товарищу Блящеву и сказал, положив на стол перед ним исписанную бумажку:
– Примите заявление. Отрекаюсь от Бога и от поповской сущности.
Блящев пробежал глазами написанное. И сказал отцу… нет, уж не отцу – товарищу! – товарищу Разговееву:
– Садитесь. Вы приняли верное направление. Наконец-таки у вас прорезалось эпохальное чутье. Божественные предрассудки есть пережиток падающего мира. И я от лица рабоче-крестьянской совести поздравляю вас, – с этими словами Блящев встал, и сообразно ему встал едва присевший Разговеев, – и жму вашу сознательную руку.
После этих слов между ними произвелось рукопожатие. Дальнейшую речь Блящев произносил стоя:
– Вы шагнули в великий коллектив целенаправленных масс. Вы выдрали свое проклятое прошлое, как гнилой зуб из челюсти буржуазного мракобесия. Вы обменяли своего устаревшего бога на обновленное социальное бытие. Вы стали нотой в мощной глотке рабочего класса, поющего грандиозную песнь борьбы в бушующих временах. Вы отринули свое позорное клеймо, отломили свой социальный вывих, вывернули на прямую дорогу светлого пути из пропасти имперского разврата. Поздравляю вас, товарищ, и целую ваши ставшие социально родными губы.
Блящев вышел из-за стола, подошел к Разговееву и, крепко обняв, еще более крепко припечатал его сухим и мощным поцелуем.
Прогрессивный шаг бывшего попа Разговеева по достоинству был оценен в газете «Нижнепорожская правда». Сам Разговеев получил место в государственном учреждении с непроизносимым названием, среди устремленных в грядущее мужчин и женщин. В небе метались над ним ошалевшие птицы. Руку его, которую в прежнем бытии униженно лобызали, стали теперь крепко и равноправно пожимать.
Одна застоявшаяся и чуть подпорченная щелочью времен девушка в учреждении повадилась зыркать на Разговеева глазками. Он же только невинно моргал в ее сторону, не проявляя никакого пристрастия.
Приходила мысль: если Бога нет, и я не поп, то почему бы не завести человеческий роман с этой барышней? Но, несмотря на искристую рябь помыслов, Разговеев оставался целомудренно сдержан, и не потому, что какие-то остаточные корешки религиозности претили возможному счастью, но почтение к памяти покойной жены непроизвольно сдерживало от всех игривых поползновений.
Так и жил Разговеев – гражданской единицей. Ходил на работу, читал газеты, посещал антирелигиозные лекции, на которых и сам выступал несколько раз с разоблачающими культ речами, смотрел в театре революционные пьесы, пока…
Пока не оборвалось все это и не полетело в пропасть.

Морозной галлюцинаторно-параноидной ночью декабря двадцать первого года, когда корчилась в припадке вьюга над обмершей землей, и Разговеев, намаявшись бессонницей, начал было проскальзывать в игольное ушко сна, у кровати возникли две высокие черные фигуры. Чернота их была плотнее и чернее той прореженной темноты, что скопилась в комнате.
Глубинной жутью веяло от фигур. С ног до головы облизал Разговеева клейкий язык невидимого чудовища, которое мы, люди, зовем страхом.
– Вы кто? – спросил Разговеев, садясь на кровати.
Комната наливалась кроваво-гнилостным полусветом, предметы напоминали в нем потроха и кости. Одеяло, которым до подбородка укрывался сидящий Разговеев, походило теперь на чью-то содранную кожу.
Фигуры, стоявшие у кровати, приобрели объем. Бликами, полутенями и тенями обрисовались уродливые тела, над которыми висели мерзостные, патологично искаженные лица – два сгустка ужаса, вошедшего в мир с кошмарной изнанки.
– Кто?.. – трепыхнулся обрывок фразы, бессмысленный лоскуток, прилипший к губе Разговеева.
Одна из фигур шагнула, нагнулась над человеком, столь одиноким и беззащитным в утробе ночи, приблизила лицо, и каждый глаз на нем казался воронкой от взрыва артиллерийского снаряда, на дне которой гноились клочья мертвой плоти.
– А то ты не знаешь, кто мы, – раздался голос, шипящий, как серная кислота, сжирающая медный пятак.
– Вы… бесы? – неожиданно для самого себя противно и тонко, с блеющим вибрато, выдохнул Разговеев, отодвигаясь, подминая под себя подушку, вжимаясь в изголовье.
Дальняя фигура механически засмеялась, негромко и мерно, с отзвуком ржавого металла в нутряном голосе.
Это и впрямь были бесы. Разговеев даже разглядел у них перепончатые крылья, точнее, куски крыльев, хаотично торчавшие из разных мест организма, словно какое-то внутреннее крылатое существо пыталось разорвать каждого беса изнутри, но застыло в нем, как в янтаре, там и тут слегка просунувшись наружу. Не покидало ощущение, что вот-вот изнутри бесов вырвется нечто еще более кошмарное, чем они сами. Похоже, бесов это самих пугало, только они давно уж привыкли к вечному внутриутробному страху и даже находили в нем извращенное удовольствие.
– Будешь работать по специальности, – сказали бесы.
Некоторые фразы они произносили вместе, и голос одного подкрашивал эхом голос другого.
«По какой еще специальности?!» – панически метнулась мысль Разговеева.
– Грехи нам отпускать, – ответили на его непроизнесенную мысль. – Ты работу знаешь.
– Грехи? Отпускать? – вслух поразился Разговеев.
– Думал, так и будешь дурью маяться в своей конторе? Каждый отрекшийся поп у нас на учете. Все вы, отреченцы, наши кадры. Работы для вас бездна.
– Но подождите, – возразил Разговеев, – я не поп уже! Я простой… гражданин!
– Какой же простой, когда ты сложный!
– Я не согласен! – возмущался Разговеев. – Не для того же отрекался от суеверий культа, чтобы культовые обязанности потом исполнять! Я заявление писал! Я… жаловаться стану! – совсем уж глупо, до форменного нонсенса, выкрикнул он.
В глазах у одного из бесов заплясало что-то вроде смеха: будто закружились в пыльном вихре мертвые мотыльки.
– Когда сдохнешь и в аду окажешься, тогда будешь жаловаться. А пока жив, будешь трудиться. Такой порядок.
– Да как же, – не соглашался Разговеев, – стану я грехи отпускать, ежели сан снял? Отпущение будет недействительным.
– Действительным, действительным, – хором пообещали бесы.
– Ну нет! Алогизм какой-то, бардак! Лишившись сана – отпускать грехи! Это неестественно и… антиканонично, наконец!
Страха у Разговеева уже не было; волной возмущения всякий страх вымыло напрочь.
– Ладно, – сказали бесы, – сейчас позовем Йошнигаррутнагутанда и Жимодарасмегонта. Они тебе все объяснят.
– Кого-кого? Йош… как?
– Йошнигаррутнагутанд, наш профессор канонического права. Жимодарасмегонт, профессор догматической антропологии.
– Имена у вас, однако… – отозвался Разговеев.
– У нас-то имена, зато у вас, людишек, заместо имен мерзость сплошная: Лев, Иван, Алексей… Как вы сами суть гнусные твари, так и ваши имена гнусны.
Вскоре явились бесы-специалисты.
Живая груда какой-то зловонной мертвечины, в которой прорисовывалось угрюмое лицо. И что-то белесое, глистообразное ползало по этой груде.
Грудой оказался Жимодарасмегонт, а белесая гадина на нем – Йошнигаррутнагутанд.
Жимодарасмегонт, похоже, дремал. Йошнигаррутнагутанд был, напротив, бодр.
– Каноны, – заговорил он, вывернув из складчатой кожи неожиданно женственное, красивое и злое лицо, – различают статус священника и мирянина при наложении тяжких прещений. За одинаковое каноническое преступление, выраженное, например, в совместных действиях священника и мирянина против епископа, первый, сиречь священник, согласно восьмому и восемнадцатому правилам четвертого Вселенского Собора, извергается из сана, однако не отлучается от церковного общения; второй же, сиречь мирянин, подпадает отлучению. Каноническое преступление, отлучающее мирянина от церковного общения, священника от него, однакоже, не отлучает. Двадцать пятое апостольское правило глаголет: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священнаго чина, но да не будет отлучен от общения церковнаго. Ибо писание гласит: „не отмстиши дважды за едино“». Промеж священника и мирянина, соделавших тождезначительное преступление, сохраняется известное различие в статусе. А значит, существует равноподобное различие между священником и мирянином, тождезначительно отрекшимися от Бога. Согласно доктрине епископа Феофана Говорова, грех, буде он удален от души, оставляет на ней след. Равноподобно и харизма священства, буде она удалена от души, оставляет на ней характерный след свой или отпечаток…
– На языке глаголемого Макария Египетского, – проскрежетал очнувшийся Жимодарасмегонт, – это называется стезей.
– Итак, след, или отпечаток, или стезя, – продолжил Йошнигаррутнагутанд, – или, выражаясь иначе, потенция священства, о коей рассуждает Никодим Святогорец в «Пидалионе», толкуя четвертое правило Антиохийского Собора. В оном толковании утверждается, что священник, изверженный из сана, лишается действования священства, но не лишается, однакоже, потенции его. Потенция, подобно некоему отпечатку, остается в душе…
– Как в умственной, так и в психической сущности внутреннего человека, такожде и во внешнем, то бишь телеснообразном психическом слое, – добавил Жимодарасмегонт.
– А раз она есть, – продолжил Йошнигаррутнагутанд, – купно с нею пребывает и отпечаток священнической харизмы, что дает отрекшемуся священнику закономерное право на отправление священнодействий, при определенном условии, сиречь ежели сии священнодействия будут носить автономно-циклический характер.
Подавленный Разговеев молчал.
– Автономно-циклический принцип священнодействий, – объяснял Йошнигаррутнагутанд, – означает произведение действий, замкнутых на оператора. Чтобы достичь сего в процессе отпущения грехов, следует прибегнуть к древнерусской разрешительной формуле. Современная формула: «Господь да простит ти, чадо, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих», – здесь неприемлема, понеже апеллирует к Богу и отрицает принцип автономности. Посему целесообразно использовать древлюю формулу: «Грехи твои на вые моей, чадо», – что всецело соответствует указанному принципу. Переложение грехов на шею исповедующего есть то самое действие, замкнутое на оператора, о коем и речь.
– Нам, – вмешались первые бесы, – нужен результат. К Богу обращаться – это нонсенс. А переложить грехи на чужую холку, а с ними вместе и все последствия – это рационально.
– Значит, вы хотите, – произнес Разговеев, – чтобы я снимал с вас грехи и навешивал их на себя?
– Точно, – проскрежетал Жимодарасмегонт.

Выхода у Разговеева, конечно же, не было. Согласия у него не спрашивали. И то была большая любезность со стороны бесов, что ему все разъяснили, вместо того чтобы просто грубо и нагло приказать.
Бесы переместили Разговеева в хижину, невесть в каком лесу стоящую. Там ему отныне надлежало жить и принимать кошмарных посетителей.
Для Разговеева наступила тяжелая пора. Отрекшихся священников на бесовские нужды не хватало. Бесы годами дожидались своей очереди на исповедь, и не было конца омерзительным исповедникам.
Зато бесы обеспечивали Разговееву и здоровое питание, и тщательный медицинский контроль с оздоровительными процедурами. Своих духовников берегли.
Периодически их собирали на заседания СОС (Синода отрекшихся священнослужителей), где духовники могли общаться друг с другом, обсуждать проблемы и делиться опытом. Допускалось это с целью психологической разрядки, необходимой, чтобы как можно дальше отодвинуть тот неизбежный момент, когда духовник сойдет с ума.
Раньше бесы использовали французских епископов и кюре, отрекшихся в девяностых годах восемнадцатого века, во время французской революции, но все они, исключая троих, постепенно лишились рассудка.
Этим трем бесы не давали умереть, добившись того, что тела их превратились в тела цветущих юношей, а не дряхлых старцев, как требовали законы естества. Но остановить процесс психического распада бесы были бессильны. Французские «юноши» отчасти уже обезумели. Их взгляды дико блуждали, а с языков частенько срывались зловеще-абсурдные фразы. И каждый из русских духовников недавнего призыва тоскливо прозревал в этих юных старцах свою собственную неотвратимую участь.

Бесовские грехи, которые приходилось отпускать Разговееву и его коллегам, заключались в проколах и промахах, допущенных бесами во время оперативной работы с людьми. Каждое упущение в работе строго фиксировалось генерал-контролерами – для последующего мучительного воздаяния.