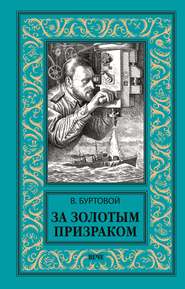По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда куковала кукушка
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего тебе, чадо? – спросил он приветливым басовитым голосом, а глаза, глубоко вдавленные по обе стороны носа, глянули на меня настороженно, словно я воровать к нему забрался.
– Попить бы, батюшка Афанасий. Весь день в дороге, нутро пересохло, – попросил я и в пояс поклонился.
Поп Афанасий, высокий и уже заметно сутулый, поспешно прошёл на кухню, деревянным ковшом зачерпнул воду из ведра, и я с наслаждение напился.
– Спаси вас Бог, батюшка Афанасий, – снова поклонился я попу, потом чмокнул протянутую морщинистую руку, которую поп высунул из длинного просторного рукава чёрной рясы. Рука у него была худая, в рыжих густых волосах.
– О чём ты сейчас слышал разговор, чадо? – ласково спросил он, подняв мою голову пальцами за подбородок.
– Об антихристе, батюшка Афанасий, – бодро ответил я, про себя подумав, что это он выпытывает, как будто сам не знает, о чём сейчас говорил с моим хозяином.
– А кто он, антихрист этот, ведаешь ли?
– Конечно, батюшка Афанасий. Антихрист – стало быть, нечистая сила, – ответил я и плечами пожал: охота ему всякую чушь выспрашивать.
– Вот-вот. – Глаза у попа потеплели. – Намедни стали бабы поговаривать, что нечистая сила в скот вселяется, молоко у коров портит, ночью коням гривы заплетает, а хвосты гребешком чешет, – зачем-то растолковывал мне всё это поп, не выпуская моего подбородка и заглядывая в глаза. – Вот и надобно просить разрешения властей на крестный ход по селу, выгнать эту нечистую силу прочь, откуда она пришла к нам, сиречь в преисподнюю. Уразумел ли, чадо?
Конечно, уразумел. Разговоров о нечистой силе среди женщин было хоть отбавляй. И где мне в десять лет было разобраться, что речь у попа с Епифановым шла совсем не о том «антихристе», который по ночам чешет кобылам гривы…
Жандармы ввалились к нам той же ночью, ближе к рассвету, заполнили комнату, принесли с собой ночной страх перед неизвестностью и белый снег на промёрзших сапогах. Я спал в углу на печке и сначала со сна не понял, что происходит в доме, скоро различил голос отца, Николая, тихий плач мамы, соскочил на пол босиком. Понял – это пришли «чёрные гости», о которых недавно говорил Спиридон Митрофанович. Пришли-таки, и я смутно догадывался, с чем это могло быть как-то связано: с учителем и кузнецом.
– Дверь хоть в сенцы закройте, – попросила мама, укутывая сестрёнку в кроватке. – Детей перестудите!
На голом, выскобленном до желтизны столе лежала чужая с кокардой папаха, за столом сидел становой пристав Глушков, широколицый, обрусевший калмык. При свете лампы я узнал его сразу. Мне и прежде приходилось видеть пристава, когда тот наезжал по праздникам к Епифановым, любил чужое застолье, когда напивался, пьяно щурил продолговатые глаза и лез к Анфисе Кузьминичне целоваться, выпячивая из-под широких усов мокрые губы. Сам я этого не видел, Клим рассказывал.
Мы с Николаем стояли у теплой побелённой перед праздником печи, поднимая от холода то одну, то другую ногу для согрева: дверь в сенцы жандармы так и не закрыли. Они сновали по дому туда-сюда то с пустыми руками, то что-то приносили приставу для показа. Тот мельком смотрел и отмахивался рукой – не то, дескать.
– Нашёл! – раздался с чердака через лаз громкий крик, оттуда в белой пыли и паутине спустился молодой сияющий жандарм со связкой тонких книг, журналов и листовок.
– Рад? – вдруг выкрикнул Николай и шагнул навстречу жандарму, словно хотел вырвать находку из вражеских рук и убежать в лес. Но отец вскинул руку, Николай остановился. – Зря не подпилил лестницу загодя, чтоб башку себе сломал, служака!
– Ужо и тебе башку скоро сломаем, бунтовское отродие, твой час не за горами, вывернем тебя наизнанку, не прыгай! – огрызнулся жандарм и положил перед приставом находку.
– Бойкая лиса перед зайцем, пока не видит охотника за деревом с ружьём! – огрызнулся Николай, махнул рукой и умолк.
– Так-так, – порадовался пристав. – Вот и находка так вовремя подоспела! – Пристав ласково похлопал рукой по книгам, посмотрел на отца, который уже одетый в пиджак и валенки стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Когда жандарм внёс книги и листовки, отец слегка побледнел и посмотрел на маму, которая глядела на него с немым ужасом, понимая, что суда теперь не миновать.
– Вот они, запрещённые книжечки, – радуясь находке, сказал пристав, взял из стопки листовок одну из них. – Вот они, запрещённые издания, – повторил пристав, а Николай в тон ему нараспев добавил:
– Вот они, дарованные народу свобода собраний и митингов, свобода читать молитвы по убиенным рабочим в столице.
– Николай, – тихо с укоризной попросил отец сына не дразнить излишне жандармов. Брат умолк. Глушков зло посмотрел на Николая, небрежно бросил листовку на стол со словами:
– Дай вам настоящую свободу, вы наворотите таких дел, что хоть святых выноси с Руси. – Повернулся к жандармам, надевая перчатки. – Выводите арестанта на улицу, хватит сидеть.
Тогда мне впервые стало страшно за отца. Я слышал в церкви, как поп Афанасий, сотрясаясь от злости и вскидывая длинные руки над головой, проклинал «арестантов», кричал на прихожан, которые стояли внизу, что ад и страшные муки ждут тех, кто против царя и властей бунтует, а летом следующего года, когда вновь вокруг начались мужицкие бунты, самовольные покосы, поджоги имений, у попа Афанасия сгорел хлебный амбар. В тот же день Николай торопливо засобирался в Самару. Когда прощались у крыльца дома, он сказал мне:
– Поклон попу Афанасию я передал от бати, будет помнить отца нашего и Анатолия Степановича и дядю Кузьму. Гришка Наумов видел, как поп своего работника посылал верхом на лошади к становому, а потом тот работный воротился в село с жандармами, которые и нагрянули к нам с обыском. Братишка, держи ухо востро, народные бунты только начинаются по всей стране. Мне скоро в армию служить, с оружием там много мужиков соберётся, и мы ещё покажем всяким приставам, где раки зимуют.
Мы обнялись, и я смотрел вслед брату, который уходил с котомкой за плечами по дороге вниз к реке Сок, которая спокойно несла свои воды в недалёкую от нас Волгу.
Каторжанская пара
Прошло два с половиной года. В одно из воскресений, загнав табун на подворье Епифановых, я прибежал домой, мама только что испекла хлеб. Я это учуял ещё в тёмных пропахший мятой сенцах. Она вынимала горячие караваи, раскладывала на столе и тут же быстро смачивала корочки водой и укрывала полотенцами.
– Мама, это чей хлеб? Анфисы Кузьминичны? – спросил я с порога: иногда хозяйка просила маму испечь хлеб для работников, летом их набиралось до десяти человек, особенно в сенокос. Мама повернулась ко мне, и я увидел её счастливые глаза, что у неё нечасто бывали в эти годы разлуки с нашим отцом и Николаем.
– Нет, сыночек, это твой хлеб, твой, кормилец ты наш! – сказала и обняла меня влажными, хлебом пахнущими руками.
– Почему это – мой? – не понял я, отстранил её от себя и посмотрел в зелёные, влажные от набегающих слёз глаза.
– Сегодня поутру Анфиса Кузьминична прислала хромого Прохора, который у неё на кухне в поварах служит. Он-то и привёз куль очень хорошей муки-белотурки. Сказал, что это от хозяина, за выхоженного тобой жеребёнка. А когда я пошла к хозяйке поклониться, да заодно вернуть готовую пряжу, что давала мне на неделе, Анфиса Кузьминична и говорит, что Клима постоянно обижают сельские мальчишки, так пусть, дескать, мой Никодим вступается за него.
Я с удивлением выслушал маму, засмеялся и пояснил:
– Да Клим сам любит атаманиться и забиячить, силёнок мало, а других первым задирает на драку, а потом папашей стращает. Он да Мишка Шестипалый первые задиры на селе. Но ежели ты просишь, буду за Климку вступаться в драках, но угодничать ему я не стану, как Игнатка Щукин, тот ему даже сапоги солидолом натирает.
– Ладно, сынок, поступай как знаешь, – согласилась мама и добавила почти шёпотом: – Приходится поклоняться чужому порогу, нужда понукает. Николая в армию забрали, где он, что с ним. Как в воду канул. Был бы сейчас отец с нами, тогда… – Она не договорила, опустила голову, и я приметил на висках у неё первую седину. Из правого глаза выкатилась слеза, сбежала к губе и упёрлась в родинку.
– Не плачьте, мама, – успокаивал я её как мог. – Папа непременно скоро вернётся. Он к лесу привычен, охотник знатный, не заблудится в тайге. Да и не один он там.
– Уж больно срок немалый присудили, пять лет работ в ссылке. Ладно, что хоть учитель рядом с ним, всё свой человек, в беде подмогнёт. А Кузьма Мигачёв сегодня мне всю посуду дырявую запаял, – оживилась немного мама. – Чинит, а сам убивается, Вот, говорит, их в Сибирь отослали, а меня через два месяца освободили, дома староста за мной доглядывает. Один я остался, без друзей. Тимофей Барышев совсем слёг, не встаёт уже, должно, помрёт скоро.
Мама помолчала немного, погладила меня по голове, как маленького, и снова попросила:
– А ты уж вступайся за Клима, бог с ним. Отец вернётся, своей силой жить станем. А пока пусть уж так будет, как хозяйка просит, она не обижает нас и денежками за пряжу платит, и вот, муки прислала, надолго хватит.
Так и повелось той поры, что мы с Климом стали бывать везде вместе, словно невидимой нитью связанные. И не один раз, как подрастать стали, слышал, на вечерних посиделках ворчали за спиной парни:
– Эх… Вздуть бы Климку, чтоб не заедался, да чтоб чужих девок походя не лапал!
– Попробуй вздуй, когда Никодим вечно рядом торчит, будто часовой у сторожевой будки! У этой каланчи кулаки будто свинцом налиты, одним махом в кизяки придорожные угодишь!
На вечеринках Клим всячески оказывал мне внимание, как равному, сажал рядом, угощал конфетами, которые я незаметно прятал в карманы для маленькой сестрёнки. Не отставал от нас и Игнат Щукин. Как угнали его отца в ссылку за погром в имении, так с той поры ни одной весточки не пришло, а некоторые шептали, будто бумага пришла начальству, в которой писано, что помер Лука Щукин на этапе, не дошёл до места ссылки. После таких разговоров Игнат вовсе сник, угождал Климу во всём, бегал с его денежками за водкой, носил тайком из погреба квас и мочёные яблоки или смородиновую наливку. Клим явно помыкал над Игнатом, с его злого языка стали парня «Суетой» называть, а у него сил было мало за себя постоять: ростом он ну никак не прибавлял, и проку от него Климу в уличных драках не было никакого. Его даже и бить никто не решался: ударь такого, а он возьми да испусти дух, а тебя загонят на каторгу! Женился Игнат рано, в семнадцать лет. Помню, в первый раз, когда мимо наших посиделок прошёл Игнат с тихой, но красивой бедной Клавой, Мишка Шестипалый вдруг дико заржал и закричал вслед:
– Глядите-ка, люди добрые! Спаровался Суета, подзаборный князь! Голь на голь голыми пузом легла, голодранцев принесла! – И тут же захлебнулся от собственного визга. Не стерпел я такой насмешки над товарищем, и несильно вроде ударил Шестипалого по затылку, да всё равно тот на ногах не устоял, а когда подхватился бежать, грозил старосте пожаловаться и упрятать меня в «холодную».
– Так всегда будет, кто Игната или его Клаву дурным словом обзовёт! – со злостью выкрикнул я. – Чтобы все слышали!
Клим шмыгнул плоскими ноздрями, явно не одобряя моего поступка, но не посмел укорять за это, плюнул вслед и сказал примирительно:
– Поделом башке непутёвой!
Клим вырос среднего роста, хотя в плечах и неслабым был, в отца своего Спиридона Митрофановича вышел. Любил на посиделки приходить подвыпившим, пялил чуть навыкате глаза на сельских девок, не прочь был поволочиться за доступными. А на Марийке, дочке Анатолия Степановича, крепко, до волдырей, обжёгся Клим. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как распускается цветок шиповника? Ещё вчера он чуть виден был среди зелёных листьев, и никому не хотелось тянуть к нему руку, а утром распустится такая свежая красота, такой аромат от цветка, что станешь ли обращать внимание на досадные уколы колючек? И тянутся к цветку жадные руки, норовя сорвать его для себя.
Вот так и Марийка, дочь сельского учителя, погостив у бабушки около года после ареста отца, вернулась в село к матери поздно вечером, поутру следующего дня расцвела перед нами стройная, гибкая, как весенняя лоза! А глаза – ну чернее самой чёрной сливы. И блестят так же, едва на них глянет хоть краешком солнце.
На посиделки мы в те дни сходились к белой кирпичной церкви. На вытоптанную конскими копытами площадь. Сюда и скамейки к деревянному забору выносили из ближних изб, здесь и гармошку ребята рвали в лихом переплясе, а пыль, бывало, такую поднимали, что дед Никанор, церковный сторож с длинной реденькой бородой и изрядно уже подслеповатый, грозил пальнуть в нас солью из ружья. Сам же в молодости, по рассказам старших сельчан, был изрядный плясун, потому парни его угроз не боялись.
– Попить бы, батюшка Афанасий. Весь день в дороге, нутро пересохло, – попросил я и в пояс поклонился.
Поп Афанасий, высокий и уже заметно сутулый, поспешно прошёл на кухню, деревянным ковшом зачерпнул воду из ведра, и я с наслаждение напился.
– Спаси вас Бог, батюшка Афанасий, – снова поклонился я попу, потом чмокнул протянутую морщинистую руку, которую поп высунул из длинного просторного рукава чёрной рясы. Рука у него была худая, в рыжих густых волосах.
– О чём ты сейчас слышал разговор, чадо? – ласково спросил он, подняв мою голову пальцами за подбородок.
– Об антихристе, батюшка Афанасий, – бодро ответил я, про себя подумав, что это он выпытывает, как будто сам не знает, о чём сейчас говорил с моим хозяином.
– А кто он, антихрист этот, ведаешь ли?
– Конечно, батюшка Афанасий. Антихрист – стало быть, нечистая сила, – ответил я и плечами пожал: охота ему всякую чушь выспрашивать.
– Вот-вот. – Глаза у попа потеплели. – Намедни стали бабы поговаривать, что нечистая сила в скот вселяется, молоко у коров портит, ночью коням гривы заплетает, а хвосты гребешком чешет, – зачем-то растолковывал мне всё это поп, не выпуская моего подбородка и заглядывая в глаза. – Вот и надобно просить разрешения властей на крестный ход по селу, выгнать эту нечистую силу прочь, откуда она пришла к нам, сиречь в преисподнюю. Уразумел ли, чадо?
Конечно, уразумел. Разговоров о нечистой силе среди женщин было хоть отбавляй. И где мне в десять лет было разобраться, что речь у попа с Епифановым шла совсем не о том «антихристе», который по ночам чешет кобылам гривы…
Жандармы ввалились к нам той же ночью, ближе к рассвету, заполнили комнату, принесли с собой ночной страх перед неизвестностью и белый снег на промёрзших сапогах. Я спал в углу на печке и сначала со сна не понял, что происходит в доме, скоро различил голос отца, Николая, тихий плач мамы, соскочил на пол босиком. Понял – это пришли «чёрные гости», о которых недавно говорил Спиридон Митрофанович. Пришли-таки, и я смутно догадывался, с чем это могло быть как-то связано: с учителем и кузнецом.
– Дверь хоть в сенцы закройте, – попросила мама, укутывая сестрёнку в кроватке. – Детей перестудите!
На голом, выскобленном до желтизны столе лежала чужая с кокардой папаха, за столом сидел становой пристав Глушков, широколицый, обрусевший калмык. При свете лампы я узнал его сразу. Мне и прежде приходилось видеть пристава, когда тот наезжал по праздникам к Епифановым, любил чужое застолье, когда напивался, пьяно щурил продолговатые глаза и лез к Анфисе Кузьминичне целоваться, выпячивая из-под широких усов мокрые губы. Сам я этого не видел, Клим рассказывал.
Мы с Николаем стояли у теплой побелённой перед праздником печи, поднимая от холода то одну, то другую ногу для согрева: дверь в сенцы жандармы так и не закрыли. Они сновали по дому туда-сюда то с пустыми руками, то что-то приносили приставу для показа. Тот мельком смотрел и отмахивался рукой – не то, дескать.
– Нашёл! – раздался с чердака через лаз громкий крик, оттуда в белой пыли и паутине спустился молодой сияющий жандарм со связкой тонких книг, журналов и листовок.
– Рад? – вдруг выкрикнул Николай и шагнул навстречу жандарму, словно хотел вырвать находку из вражеских рук и убежать в лес. Но отец вскинул руку, Николай остановился. – Зря не подпилил лестницу загодя, чтоб башку себе сломал, служака!
– Ужо и тебе башку скоро сломаем, бунтовское отродие, твой час не за горами, вывернем тебя наизнанку, не прыгай! – огрызнулся жандарм и положил перед приставом находку.
– Бойкая лиса перед зайцем, пока не видит охотника за деревом с ружьём! – огрызнулся Николай, махнул рукой и умолк.
– Так-так, – порадовался пристав. – Вот и находка так вовремя подоспела! – Пристав ласково похлопал рукой по книгам, посмотрел на отца, который уже одетый в пиджак и валенки стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Когда жандарм внёс книги и листовки, отец слегка побледнел и посмотрел на маму, которая глядела на него с немым ужасом, понимая, что суда теперь не миновать.
– Вот они, запрещённые книжечки, – радуясь находке, сказал пристав, взял из стопки листовок одну из них. – Вот они, запрещённые издания, – повторил пристав, а Николай в тон ему нараспев добавил:
– Вот они, дарованные народу свобода собраний и митингов, свобода читать молитвы по убиенным рабочим в столице.
– Николай, – тихо с укоризной попросил отец сына не дразнить излишне жандармов. Брат умолк. Глушков зло посмотрел на Николая, небрежно бросил листовку на стол со словами:
– Дай вам настоящую свободу, вы наворотите таких дел, что хоть святых выноси с Руси. – Повернулся к жандармам, надевая перчатки. – Выводите арестанта на улицу, хватит сидеть.
Тогда мне впервые стало страшно за отца. Я слышал в церкви, как поп Афанасий, сотрясаясь от злости и вскидывая длинные руки над головой, проклинал «арестантов», кричал на прихожан, которые стояли внизу, что ад и страшные муки ждут тех, кто против царя и властей бунтует, а летом следующего года, когда вновь вокруг начались мужицкие бунты, самовольные покосы, поджоги имений, у попа Афанасия сгорел хлебный амбар. В тот же день Николай торопливо засобирался в Самару. Когда прощались у крыльца дома, он сказал мне:
– Поклон попу Афанасию я передал от бати, будет помнить отца нашего и Анатолия Степановича и дядю Кузьму. Гришка Наумов видел, как поп своего работника посылал верхом на лошади к становому, а потом тот работный воротился в село с жандармами, которые и нагрянули к нам с обыском. Братишка, держи ухо востро, народные бунты только начинаются по всей стране. Мне скоро в армию служить, с оружием там много мужиков соберётся, и мы ещё покажем всяким приставам, где раки зимуют.
Мы обнялись, и я смотрел вслед брату, который уходил с котомкой за плечами по дороге вниз к реке Сок, которая спокойно несла свои воды в недалёкую от нас Волгу.
Каторжанская пара
Прошло два с половиной года. В одно из воскресений, загнав табун на подворье Епифановых, я прибежал домой, мама только что испекла хлеб. Я это учуял ещё в тёмных пропахший мятой сенцах. Она вынимала горячие караваи, раскладывала на столе и тут же быстро смачивала корочки водой и укрывала полотенцами.
– Мама, это чей хлеб? Анфисы Кузьминичны? – спросил я с порога: иногда хозяйка просила маму испечь хлеб для работников, летом их набиралось до десяти человек, особенно в сенокос. Мама повернулась ко мне, и я увидел её счастливые глаза, что у неё нечасто бывали в эти годы разлуки с нашим отцом и Николаем.
– Нет, сыночек, это твой хлеб, твой, кормилец ты наш! – сказала и обняла меня влажными, хлебом пахнущими руками.
– Почему это – мой? – не понял я, отстранил её от себя и посмотрел в зелёные, влажные от набегающих слёз глаза.
– Сегодня поутру Анфиса Кузьминична прислала хромого Прохора, который у неё на кухне в поварах служит. Он-то и привёз куль очень хорошей муки-белотурки. Сказал, что это от хозяина, за выхоженного тобой жеребёнка. А когда я пошла к хозяйке поклониться, да заодно вернуть готовую пряжу, что давала мне на неделе, Анфиса Кузьминична и говорит, что Клима постоянно обижают сельские мальчишки, так пусть, дескать, мой Никодим вступается за него.
Я с удивлением выслушал маму, засмеялся и пояснил:
– Да Клим сам любит атаманиться и забиячить, силёнок мало, а других первым задирает на драку, а потом папашей стращает. Он да Мишка Шестипалый первые задиры на селе. Но ежели ты просишь, буду за Климку вступаться в драках, но угодничать ему я не стану, как Игнатка Щукин, тот ему даже сапоги солидолом натирает.
– Ладно, сынок, поступай как знаешь, – согласилась мама и добавила почти шёпотом: – Приходится поклоняться чужому порогу, нужда понукает. Николая в армию забрали, где он, что с ним. Как в воду канул. Был бы сейчас отец с нами, тогда… – Она не договорила, опустила голову, и я приметил на висках у неё первую седину. Из правого глаза выкатилась слеза, сбежала к губе и упёрлась в родинку.
– Не плачьте, мама, – успокаивал я её как мог. – Папа непременно скоро вернётся. Он к лесу привычен, охотник знатный, не заблудится в тайге. Да и не один он там.
– Уж больно срок немалый присудили, пять лет работ в ссылке. Ладно, что хоть учитель рядом с ним, всё свой человек, в беде подмогнёт. А Кузьма Мигачёв сегодня мне всю посуду дырявую запаял, – оживилась немного мама. – Чинит, а сам убивается, Вот, говорит, их в Сибирь отослали, а меня через два месяца освободили, дома староста за мной доглядывает. Один я остался, без друзей. Тимофей Барышев совсем слёг, не встаёт уже, должно, помрёт скоро.
Мама помолчала немного, погладила меня по голове, как маленького, и снова попросила:
– А ты уж вступайся за Клима, бог с ним. Отец вернётся, своей силой жить станем. А пока пусть уж так будет, как хозяйка просит, она не обижает нас и денежками за пряжу платит, и вот, муки прислала, надолго хватит.
Так и повелось той поры, что мы с Климом стали бывать везде вместе, словно невидимой нитью связанные. И не один раз, как подрастать стали, слышал, на вечерних посиделках ворчали за спиной парни:
– Эх… Вздуть бы Климку, чтоб не заедался, да чтоб чужих девок походя не лапал!
– Попробуй вздуй, когда Никодим вечно рядом торчит, будто часовой у сторожевой будки! У этой каланчи кулаки будто свинцом налиты, одним махом в кизяки придорожные угодишь!
На вечеринках Клим всячески оказывал мне внимание, как равному, сажал рядом, угощал конфетами, которые я незаметно прятал в карманы для маленькой сестрёнки. Не отставал от нас и Игнат Щукин. Как угнали его отца в ссылку за погром в имении, так с той поры ни одной весточки не пришло, а некоторые шептали, будто бумага пришла начальству, в которой писано, что помер Лука Щукин на этапе, не дошёл до места ссылки. После таких разговоров Игнат вовсе сник, угождал Климу во всём, бегал с его денежками за водкой, носил тайком из погреба квас и мочёные яблоки или смородиновую наливку. Клим явно помыкал над Игнатом, с его злого языка стали парня «Суетой» называть, а у него сил было мало за себя постоять: ростом он ну никак не прибавлял, и проку от него Климу в уличных драках не было никакого. Его даже и бить никто не решался: ударь такого, а он возьми да испусти дух, а тебя загонят на каторгу! Женился Игнат рано, в семнадцать лет. Помню, в первый раз, когда мимо наших посиделок прошёл Игнат с тихой, но красивой бедной Клавой, Мишка Шестипалый вдруг дико заржал и закричал вслед:
– Глядите-ка, люди добрые! Спаровался Суета, подзаборный князь! Голь на голь голыми пузом легла, голодранцев принесла! – И тут же захлебнулся от собственного визга. Не стерпел я такой насмешки над товарищем, и несильно вроде ударил Шестипалого по затылку, да всё равно тот на ногах не устоял, а когда подхватился бежать, грозил старосте пожаловаться и упрятать меня в «холодную».
– Так всегда будет, кто Игната или его Клаву дурным словом обзовёт! – со злостью выкрикнул я. – Чтобы все слышали!
Клим шмыгнул плоскими ноздрями, явно не одобряя моего поступка, но не посмел укорять за это, плюнул вслед и сказал примирительно:
– Поделом башке непутёвой!
Клим вырос среднего роста, хотя в плечах и неслабым был, в отца своего Спиридона Митрофановича вышел. Любил на посиделки приходить подвыпившим, пялил чуть навыкате глаза на сельских девок, не прочь был поволочиться за доступными. А на Марийке, дочке Анатолия Степановича, крепко, до волдырей, обжёгся Клим. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как распускается цветок шиповника? Ещё вчера он чуть виден был среди зелёных листьев, и никому не хотелось тянуть к нему руку, а утром распустится такая свежая красота, такой аромат от цветка, что станешь ли обращать внимание на досадные уколы колючек? И тянутся к цветку жадные руки, норовя сорвать его для себя.
Вот так и Марийка, дочь сельского учителя, погостив у бабушки около года после ареста отца, вернулась в село к матери поздно вечером, поутру следующего дня расцвела перед нами стройная, гибкая, как весенняя лоза! А глаза – ну чернее самой чёрной сливы. И блестят так же, едва на них глянет хоть краешком солнце.
На посиделки мы в те дни сходились к белой кирпичной церкви. На вытоптанную конскими копытами площадь. Сюда и скамейки к деревянному забору выносили из ближних изб, здесь и гармошку ребята рвали в лихом переплясе, а пыль, бывало, такую поднимали, что дед Никанор, церковный сторож с длинной реденькой бородой и изрядно уже подслеповатый, грозил пальнуть в нас солью из ружья. Сам же в молодости, по рассказам старших сельчан, был изрядный плясун, потому парни его угроз не боялись.