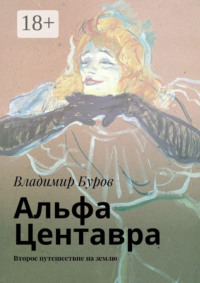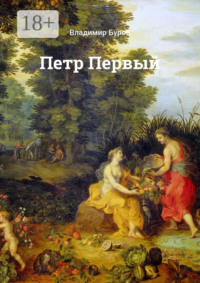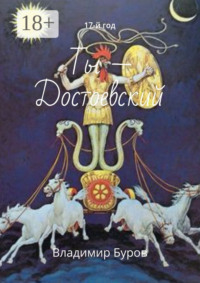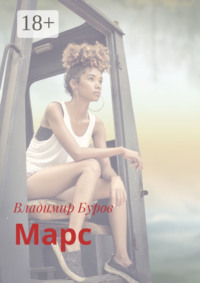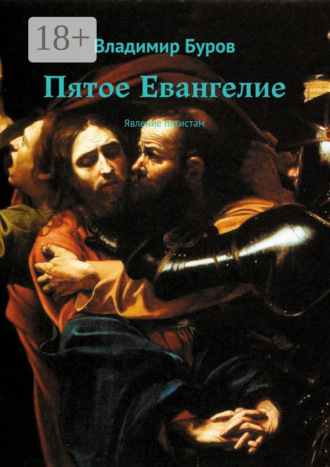
Пятое Евангелие. Явление пятистам
Об одной было сказано, что она знакомая там чья-то, о другой, что она племянница какого-то дяди, третья просто соседка, четвертая это сама хозяйка дома, пятая ее внебрачная дочь, шестая тетка по первому мужу и т. д. Господи, как же с этим справиться, если говорят, что это просто шоу-бизнес. И у Агаты Кристи это на самом деле шоу-бизнес. Так много сказано специально, чтобы читатель и не пытался начать анализировать. О чем беспокоиться? Ведь все совершенно понятно:
– Перешла улицу миссис Инглторп. – Чего здесь непонятного. Какое слово? Миссис Инглторп? Это женщина, которая уже три раза вступала в разговор. Это помнит каждый, а больше ничего и не надо. Как же? Ведь было написано, что она чья-то там родня, кажется. Отлично! Ведь вы это помните. Но было сказано точно, чья она родня, и беспокоит, что это не вспоминается. Значит, и не надо это помнить. Почему? Потому что специально так написано, чтобы ввести читателя в детектив.
Чтобы он понял, примирился, что его знания на каждый данный момент частичны. Именно ведь с частью знаний ведется расследование. Все-то ведь известно будет только в конце. Вот эту способность примириться с частью знаний кто-то и назвал интеллектом.
Сокращено два абзаца
Так и здесь. Если человек захочет прочитать книгу, то другой художественной литературы, кроме соцреалистической он не найдет. А она вся ерунда. Но если читать все-таки хочется, то этот человек, как и раньше, продолжает верить:
– Ну, может все-таки попадется что-нибудь хорошее. Может быть, когда-нибудь.
Сокращено 3 страницы
Почему нельзя говорить нормальным человеческим голосом? Например, вот так: «Последней и первой по-русски радио-публикацией Иосифа Бродского у нас было эссе, которое вы сейчас услышите в переводе Александра Сумеркина и чтении Дмитрия Волчека.
Итак, – заканчивает Сергей Юрьенен, – Иосиф Бродский. «Трофейное».
И начинает Дмитрий Волчек:
«В начале была тушенка…»
Когда потом я вспомнил это эссе, я думал, что его читает сам Бродский. Вспоминался именно его голос. Ставлю кассету, оказывается, читает Дмитрий Волчек. Вот это чтение. Магия какая-то.
Сокращено четыре абзаца
Только здесь совершенно разное занижение. Агата Кристи занижается до своего мнения. Она решает думать по-своему. Считает, что возможно, если так сложились обстоятельства, работать кухаркой и считать, что очень важно, эту работу не хуже работы академика.
Сокращена 1 страница
Когда главного редактора, или заместителя главного редактора – не помню сейчас точно, потому что это было несколько лет назад – американского журнала «Ньюйоркер» спросили, почему они печатают только один рассказ в номере, а не два, как раньше, он сказал поразительную вещь. Сказал, что нечего печатать, некому писать, все ушли в телевидение, в кино.
Что же происходит? Он сказал, что раньше за произведениями Сэлинджера выстраивались очереди у киосков, ждали продолжения. Чего же они ждали?
Я читал роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Это было какое-то откровение: как роман Хемингуэя «Острова в океане», когда я первый раз прочел эту книгу.
Я думаю, каждый человек стоял в очереди за самим собой. Эта книга открывала в голове читателя парадоксальную извилину: вдруг оказывалось, что я и так хорош. Именно таким нужен богу, какой я есть.
Сокращено две строки
У нас и так все есть, а мы этого не знали. Книга покупалась, как приспособление быть самим собой. Каждый, кто покупал книгу оказывался лучше, моральней самого могущественного, самого морального существа на свете – государства.
Наверное, все покупали эти книги и плакали от счастья, как японцы, любящие поплакать, когда победят.
Сокращено 2 страницы
Тогда как Пушкин считал, что гения узнает каждый. Все. Он не фокусник. Все, что выше читателя, к гениальности не относится. Пушкин говорил, что он хочет быть Как Все.
Сокращено один абзац
Здесь мы опять переходим на сторону Моцарта. Ибо: только Подлинник бог. Копия – это дьявол. Значит, человек должен быть не только Сальери, но и Моцартом. Как Пушкин. Пока отложим это исследование. Замечу только, что мои Моцарт и Сальери – герои пьесы Пушкина «Моцарт и Сальери». К сожалению, этой разницы между героями пьесы и историческими персонажами не заметил Марио Корти. Он ругал Пушкина за то, что Пушкин приписал любителю конфет Сальери ужасное убийство. Замечу здесь только, что Пушкин никогда не ошибался. Он брал только стопроцентно достоверные материалы для своих произведений. Ни на один процент меньше. Только стопроцентная достоверность.
Как в Библии. Дальше будет ясно, что это именно так.
Сокращено 2 страницы
Какой язык, какой стиль в фильме «Казино» с Робертом де Ниро? Какое действие в фильме «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером? Едет в Америку, мы смотрим сцены охоты за матерым преступником, сцены битв в гостинице на ружьях и пистолетах, на улице смотрим сцену лобовой атаки на автобусах. Какое тут экшэн?
Сокращено две строки
Какое действие в фильме «Спасая рядового Райана»? Разве в нем сюжет сжимается, как пружина и зритель с нетерпением ждет, когда он начнет разворачиваться? А вот в фильме «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» такая пружина есть. Но ведь этому фильму, сколько лет-то уже?
Почему кажется, что произведение представляет собой ряд более-менее связанных между собой сцен? Ведь тоже самое происходит в фильме «Спасая рядового Райана». Мы видим, как качаются мягкие белые куски хлеба, нагруженные колбасой и сыром, как дымится кофе в кружке, а мимо идут и идут люди и едут машины десанта. Утро после боя. Мы видим, как затаившиеся снайперы ищут друг друга в оптические прицелы. Видим то одного, то другого. Видим противника через прицел одного, а потом через прицел другого. Мы слушаем песню, которую поет Эдит Пиаф. Долго слушаем. Смотрим, как переводится, комментируется песня. Разве такой акцент на сцене соответствует сюжету, смыслу фильма о спасении рядового Райана? Нет. По отношению к этой идее сцены начинают выделяться, и фильм выглядит, как ряд более-менее связанных между собой сцен. Зато есть, что посмотреть. Даже пересмотреть. Я так, уже смотрел раз пять.
Сокращено 2 страницы
Кто-то же мог остаться жить так, как жил своей жизнью. Именно так делает Вальтер Скотт. В его романе «Астролог» не делается зацикливания эпизодов. Ружьё стреляет, значит, даётся ответ на вопрос, зачем этот герой появился в романе. Ответ такой: они создают картину жизни. Действие, события романа происходят не только в тексте романа, но и в жизни. Так сознательно писал свои романы Вальтер Скотт. Так, по сути дела, написаны все романы.
Сокращен один абзац
Они стараются зациклить все линии, чтобы создать впечатление, что в романе описана вся жизнь, всё тут.
Так не бывает, почему, например, Вальтер Скотт часто использует прием обращения к читателю, чтобы показать, что роман – это только часть жизни. Также делают и Шекспир, и Пушкин. Очень важно, например, что Сальери травит Моцарта не в жизни, а в пьесе. Пьеса и жизнь – это не одно и тоже. И вот не зацикленные эпизоды и показывают это. Они являются своего рода выходом пространства романа в жизнь. Это показ не сцены, где происходит действие, а партера, зрителей. Это именно тот второй шаг, который делает Сальери, чтобы увидеть, что мы уже не в Раю.
Сокращена 1 страница
Так что, думайте сами, решайте сами:
ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ
P.S. 1
А всё-таки она вертится
Мне кажется, именно благодаря незавершенности эпизода в фильме Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана» возникает какое-то четырехмерное пространство, такое же, как в «Одиссее» или «Илиаде» Гомера. Сделано так, как написано в Библии, что можно одновременно находиться в двух местах. Обычно читатель или зритель следует за одним героем. Показ противника возможен, но только с позиции героя, иначе придется читателя или зрителя с противником знакомить. Когда мы видим героя глазами противника, мы должны знать, в чьей шкуре в этот момент находимся, иначе возникнет ощущение, что ружье стреляет, а… а до этого нам ружья не показали. Как же это? Тем не менее мы в фильме «Спасая рядового Райана» видим снайпера-героя глазами снайпера-фашиста, так сказать, знакомимся с ним близко, а… а его тут же убивает снайпер-герой, оптический прицел которого блеснул перед нами, то есть перед немцем и зрителем. – Я замечаю сейчас, что слова:
– То есть, – стоят там, где их трудно заменить, не ухудшив содержания. Это не просто автоматическая присказка, не тавтология. Оказывается, тогда я уже начал кое-что соображать. Придется и их оставлять сейчас. Иначе долго придется думать, чем их заменить. Не хотят они заменяться. Спасибо. Продолжаю дальше.
Только сейчас я знал связь между этими, показанными всего один раз ружьями и бегом Тома Хэнкса в другом фильме «Форрест Гамп». Сейчас вспомню. А! То и другое с точки зрения соцреализма невозможно. Маленький Том Хэнкс бежит по дороге, а за ним гонится машина. А он бежит и бежит. Зачем?! Так не бывает! Не совсем же он чокнутый. Можно ведь свернуть с дороги в сторону, там машина уже не пройдет. И в фильме есть обоснование такого бега, чтобы бег по дороге от машины был правдой, а не просто «придурью» автора. Мол, лишь бы не делать соцреализм, пусть он бежит и бежит по дороге. Нет, по содержанию фильма ясно, что ноги этого бегуна работают лучше, чем голова. Точнее, это он сам так про себя думает, поэтому и решает:
– Лучше бежать, чем придумывать какую-то заморочку. Ноги проверены, а ум, еще неизвестно точно, может и не сработать, не стало бы хуже.
Но это всё только обоснование реальности происходящего, что это правда, а не шутка. Но дело не в этом, а в том, что свернуть с дороги нельзя. Даже плохому бегуну и умному человеку. Этого нельзя сделать в принципе. И Эйнштейн не додумается свернуть с дороги в лес, когда за ним гонится машина. Точнее, наоборот, он-то как раз додумается, что это невозможно. Невозможно, именно так. Надо только бежать и бежать. Так же делает Мел Гибсон в фильме «Храброе сердце». Он там придумывает для врагов «заморочку» в начале боя, но это только так, чтобы хорошо начать бой. Все срываются с места и как бешеные бегут навстречу друг другу, чтобы рубиться. Нет для двух наций (англичан и шотландцев) другого пути, кроме этого поля боя. Его не обойти никаким лесом.
А соцреалист сказал бы:
– Так не бывает.
Но совершенно ясно, что только так и бывает. Не может просто быть иначе.
В чем причина ошибки соцреалиста? Почему он не верит, в бегущего по дороге Тома Хэнкса?
Получается, что соцреализм – это такое представление о мире, которое претендует на всесторонность. Вот так, занизились до абсолютных знаний. Как это возможно? Надо чтобы пространство сжалось в точку, а время остановилось. Ведь только в этом случае необходимо всесторонне описывать объект.
Соцреализм это такая особенность мышления, которая критикует всех за односторонность. Так, например, академик Игорь Волгин критикует Бориса Парамонова, считая рассуждения последнего о Фрейде бытовыми, ученическими. Б. Парамонов замечает, что односторонней является любая методология.
Помню, я очень удивился, первый раз прочитав Хемингуэя: как можно говорить так определенно. Ведь ясно, что может быть и иначе, чем говорит Хемингуэй.
Но метод соцреализма – это именно всестороннее исследование объекта. Соцреалист думает, что он лучше, умнее, на любое утверждение он может возразить. Например, если кто-то скажет, что писатель не отражает мир, а создает его, то соцреалист ответит:
– Создаёт, отражая. Отражая, создаёт. Писатель выражает себя, создавая произведение, отражая окружающий мир.
Точнее, он считает, что не он умнее, а метод его самый передовой.
Но дело в том, что Игорь Волгин и Борис Парамонов говорят о разных вещах. Для первого Земля плоская, для второго она круглая. Разница здесь в том, что на плоской, соцреалистической Земле, можно видеть всё сразу. О круглой Земле всё сразу не скажешь. Её можно описать только рядом утверждений, высказываемых во время поворачивания Земли. Их нельзя сказать сразу. Если всё это конкретизировать, то получится, что бытовуха Б. Парамонова реальность, а всесторонность И. Волгина учебник. Если тот, кто считает учебник всем миром, увидит утверждение реалиста (не соцреалиста, а именно реалиста, ибо соцреализм и учебник – по сути дела одно и тоже), он посчитает его ученическим. А как же иначе, другого мира, кроме мира учебника, он не знает. А в этом мире он, соцреалист, корифей. Академик и есть человек, хорошо разбирающийся в учебниках.
Когда зрители видят высадку десанта на пляж Омаха в фильме «Спасая рядового Райана» они открывают рты от удивления и волнения. Кажется, что вот она реальность, вот она правда.
Кажется, что сам участвуешь в атаке на немецкие дзоты. А вот здесь-то как раз и зарыта собака. Не при каком участии в бою не увидишь того, что видит зритель. Это вымысел!
Не в том дело, конечно, что боец в атаке занят другими вещами, ему некогда смотреть по сторонам. Дело в том, что зритель видит атаку, как будто снятую одной камерой, которую несет какой-то, принимающий участие в бою, корреспондент, а на самом деле зритель одновременно видит видение нескольких участников боя. Он может видеть дзот издалека, как боец, стоящий далеко, а потом тут же сразу, зритель видит этот же дзот близко, как тот, кто стоит близко, потом сразу же, как немец, стоящий за пулеметом и видящий, как атакующие перебежками приближаются к нему. Этого не может быть! Это вымысел.
Что имел в виду Чехов, когда сказал:
– Этого не может быть.
Кто-то принес Чехову рукопись, чтобы он посмотрел, что в этой рукописи не так. Про что-то Чехов сказал:
– Этого не может быть.
– Как же?! – отвечает автор, – я сам это видел.
Значит, правдой Чехов считал вымысел, которого не было где-то у автора.
Вымысел – это то, чего нет в представлении. Это то, чего нет на плоской Земле. Это то, чего нет в учебнике. То есть это реальность.
– Вот видите, какое здесь То есть:
– Вымысел, то есть – Реальность.
Именно вымысел – это единственный продукт, который производит искусство. То есть кино и литература в данном случае.
– А здесь нет. – Поэтому это предложение я переписываю, будет просто:
– Кино и литература в данном случае. – Хотя… Даже и здесь лучше оставить, ибо литература и кино не для всех:
– Искусство.
Иногда некоторые говорят:
– Американское кино бездуховное, зато как снято!
А как снято? Именно так и снято, чтобы произвести вымысел, то есть духовность. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин:
– Над вымыслом слезами обольюсь.
Зачем же слезами-то обливаться? – спросит кто-нибудь. Потому что это победа. Значит, человеку, которому бог дал один талант, удалось не просто сберечь его, но и добыть еще талант. А было это так трудно, что человек заплакал, когда добыл этот второй талант. И вот он возвращает богу два таланта. Один это учебник, а другой реальность. Или можно сказать и по-другому: один это реальность, а другой – вымысел.
Его полно производится. Все американские фильмы известных киностудий, таких как «ХХ-й век фокс», «уорнербразерс», «парамаунт» это вымысел. Но здесь это редкость. Тем более в книжном мире. Когда в девяносто первом всё разрешили, и появился Булгаков, одна продавщица книжного магазина принесла «Мастера и Маргариту» своим знакомым и сказала:
– Я прочла, но ничего не поняла. – То ли она сказала, что это мура, то ли бред, то ли кошмар, что-то такое, не помню точно.
И действительно кошмар, ибо:
– Что же непонятного-то?
Какое слово непонятно, какой сюжетный ход кажется бредом, какое лицо ужасным, где мура?
А мура именно вымысел. Этот анти-соцреалистический продукт, произведенный Булгаковым, шокировал бедную продавщицу.
Не выдумка, а именно жизнь её ужаснула. Людям, привыкшим к истинам учебников, такие произведения кажутся кошмаром.
Но ведь это уж было давно. Теперь-то сколько американских фильмов пересмотрели, во всех кинотеатрах они идут. Пора вроде бы привыкнуть. Нет, литература, это видимо, последний оплот соцреализма. Этот окоп они сдавать не хотят. Пока писал это эссе, прочитал кое-что из лежащих передо мной детективов. Такое впечатление, что… как бы это лучше объяснить?
Вот, например. Поступил человек в университет на мехмат или на филологический, а там военная кафедра. Вроде бы хорошо, можно в армию не ходить, здесь всему заодно и научат. Правой, левой, кругом, вперед марш! Также изучение схем различных подразделений сюда входит. Кто первый бежит, куда и зачем. Но вот вдруг ликвидируют все его математические или филологические предметы, и остаётся только эта военная кафедра. Правой, левой, вперед, кругом, марш. Выкопать ямы глубиной метр восемьдесят и залечь в них.
– Как же так? – спросит студент. – Я шел на мехмат, а вы что тут мне рассказываете?
Вот тоже самое спросит и читатель, купивший детектив:
– Я покупал книгу, а вы что тут мне преподносите?
Господа, ведь это же просто-напросто инструкция по боевой и политической подготовке. А не книга!
Или посмотрим на другой пример. Машина едет по дороге. Реально здесь то, что машина едет по дороге не крышей, не боком, а именно колесами. Это реально, это нам хотят показать.
– Смотрите на колесо, как оно цепляется за асфальт.
А это ведь неправильно, смотреть надо не на колесо, а на дорогу!
Получается, что произошла культурная революция. Как в Китае. Дождались наконец-то.
Соцреалист, конечно, не думает ни о пространстве, сжатом в точку, ни о остановившемся времени, ни о плоской Земле, когда говорит «не верю!» про Форреста Гампа, бегущего по дороге от машины. Он не верит в реальность происходящего. И вообще, говорит он, это просто комедия, а Форрест Гамп – дурачок. Но, во-первых, комедия ничем не хуже драмы или трагедии. Или вы думаете, что трагедия реалистичнее комедии? Вряд ли. Во-вторых, дураков бог посылает в мир не для того, чтобы все радовались, что они умнее, а наоборот, чтобы на себя посмотрели. Именно реальный человек – это и есть Форрест Гамп. Точнее, не просто человек, а хороший человек это и есть Форрест Гамп. Так сказать – Человек Разумный. Недаром все герои американских фильмов похожи на неграмотных дуболомов: Сильвестр Сталлоне, Щварценеггер, Клинт Иствуд, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен – все они играют, в общем-то, почти идиотов. Да, как это ни смешно. Потому что всех умных сожрал монстр идеологии. А что здесь удивительного? У русских тоже главный герой – Ваня-дурачок.
Так вот, Форрест Гамп бежит и бежит, а ему не верят. Рецензент не верит в вымысел. Ну не правда это и всё, говорит он, если бы мы участвовали в этом событии, то не увидели бы подобных вещей.
Когда Ландау говорил, что уже можно изучать вещи, которые нельзя себе представить, он имел в виду именно вымысел. Нет? Именно да. Соцреалист смотрит на звёзды и восхищается:
– Как это блестяще!
Ему предлагают подзорную трубу или телескоп, а он не хочет брать это, потому что тогда вид звезд будет нереальным! Невероятно, но ведь именно это и происходит, когда говорят:
– Это не правда, это только в кино так происходит. На самом деле быть не может, не может человек подсмотреть всё так. Не может себе представить.
Не может, это точно. Без подзорной трубы не увидишь. Роман это и есть подзорная труба, которая предлагается читателю. Так сказать, посмотри вокруг себя хорошенько.
– Не буду, потому что это уж будет неправда. Это будет нереально.
А чего не реального-то? Все будет очень реально. Именно очень реальным назвал фильм Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана» Слава Цукерман. Это правда, не тот Цукерман, который написал книгу «Как написать бестселлер», это другой. Он иногда выступает по «Радио Свобода» с замечаниями о фильмах. Правда, забывает иногда одну вещь: главным рецензентом для американских фильмов является зритель, а не кинорежиссер или кино-профессор. Просто они так сделаны.
Так вот Слава Цукерман говорит, что это неправильно соединять вымышленный сюжет и реальность войны, имея в виду фильм «Спасая рядового Райана». Он считает, что это только таковы нравы Голливуда. Забыл, наверное, что до Голливуда это сделал Гомер в «Одиссее» и «Илиаде». В этом-то и задача, чтобы соединить вымысел и реальность. Вымысел просто так не возникает. Как написано в Библии, сначала должно быть душевное, а потом духовное. Именно из душевного духовное вырастает.
Если через подзорную трубу все же посмотреть на звезды, то окажется, что вымысел и есть реальность. Точно так же фильм, снятый шестнадцатью камерами и создает ту реальность войны, какой, мы теперь понимаем, она и была. Всё в фильме именно так, мы не видим ничего нереального, а ведь этого не может быть, не может участник боя увидеть ничего подобного.
Значит, роман, это не просто приспособление, с помощью которого можно принять участие в приключениях, а приспособление, с помощью которого можно принять участие в вымышленных приключениях.
Только вымысел есть продукт романа. Только в вымысле можно увидеть бога. Невооруженным глазом его не увидишь. В представлении бог не реален. Почему его и нет в соцреализме. Его нет в коммунизме. Он не может там существовать. Нельзя упрекать коммунистов за атеизм, нет в соцреалистическом пространстве бога. Здесь все логично. Железно, так сказать.
Борис Парамонов говорит, что не надо путать бога и Библию с литературой. Надо объяснять все проще. Но, я думаю, бог и должен быть прост. Он должен участвовать во всех событиях. По крайней мере, я пока не могу обойтись без прямого упоминания бога, потому что причина существования таких боевиков, которые сейчас издаются здесь, в фундаменте, в понимании духовности.
Здесь слишком жестокая реальность. Она не годится для вымысла. Здесь нет возможности поверить в бога.
Но ведь верили вроде бы раньше? Зачем же Пушкин сказал:
– Над вымыслом слезами обольюсь?
Хотя сегодняшние рецензенты скажут, что Пушкин им не указ. Он производил не коммерческую литературу. Им нужно мнение Фаддея Булгарина и его Выжигина. Но в данном случае и это сомнительно.
Но у Пушкина бог был. Даже «Повести Белкина» он протащил по кресту. Раньше в предисловиях часто говорилось, что время написания повестей и расположение их в книге различны. Почему-то никто не мог удержаться от упоминания об этом вроде бы не таком уж важном факте. И действительно, как-то странно они переставлялись. Казалось, в этом есть какая-то тайна. Казалось, что одна последовательность возникает из другой по какому-то определенному закону. И точно: оказалось, что последовательности симметричны. Хотя об этом можно было догадаться. Но вот каков закон симметрии? Попросту говоря, что представляет собой зеркало?
Какое же зеркало, как вы думаете, использовал Пушкин? Плоскостью симметрии оказался крест. Повести переставлены по кресту.
Не просто смертью, а именно распятием на кресте отделены друг от друга реальность и вымысел.
Продукт распятия – вымысел.
Вымысел, в котором живет бог.
Вымысел – это распятая реальность.
А. Кончаловский сказал сегодня, что талантливые произведения искажают жизнь. Внимательный наблюдатель, конечно. Но я думаю, любое произведение искажает жизнь. Но в простом произведении ошибка кажется естественной. Да она и не такая, как в настоящем. В художественном произведении жизнь не искажается, это только так кажется. На самом деле жизнь воссоздается такой, какая она есть.
Как происходит искажение жизни хорошо видно на «Повестях Белкина». Не буду здесь связываться с удивительнейшим содержанием самих «Повестей», а давайте опять посмотрим на их последовательность. Принцип искажения жизни в художественном произведении Пушкин продолжил логически на последовательность повестей. В книге она не такая, как была в жизни. В книге, т.е. художественном произведении она искажена. Но как уже говорилось, это искажение делается не просто так. Обе последовательности образуют то, чего не видно, чего нет, то есть вымысел, который весьма реален – это крест.
Запомнилось искажение жизни в известном американском фильме «Один дома». Там маленький мальчик устраивает движение фигур в доме, чтобы два преступника, решившие напасть на дом, испугались, увидев в окне двигающихся взрослых людей. Кажется, невозможно за такое короткое время сконструировать все это. Хотя и показывается, что сделано все просто с помощью проигрывателя, кажется. Но все равно, чтобы маленький мальчик один это сделал? Нет, невозможно. А с другой стороны: как это невозможно – всё движется. Как говорится, «а всё-таки она вертится». Невозможно, а вертится!