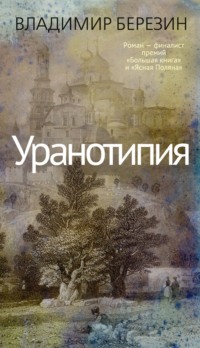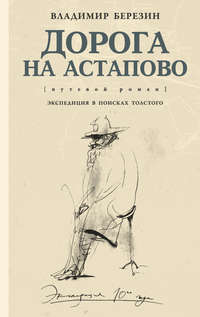Свидетель
Итак, римские дороги неожиданно обнаруживались среди современного овса. Следы замков и мостов возникали около рек. Стоит ли говорить, что я так и не нашёл следов этой книги в следующей за отлётом жизни.
Странно трансформировали меня эти картины: будто подняли меня над землёй, а потом снова опустили пониже, между сельсоветом и туалетной будкой. При этом ничего в мире не пропадает, ничто не растворяется в земле и от всего есть свои следы.
Но следы прошлого я находил везде. В Москве есть следы сталинского генерального плана её полного переустройства. Дело в том, что сохранились совершенно незнаменитые, но крепкие и солидные постройки, те дома, которые возводились по красной линии не тогдашних, а будущих улиц. То есть всё, что рядом должно было быть снесено, а эти дома – образовать новые проспекты. Однако время перемололо всё, как в стихотворении Шелли про Озимандия.
Один такой дом стоял в Мансуровском переулке, в самой его середине, и его парадный фасад был обращён во двор – к не существующей уже и одновременно будущей Кропоткинской улице.
То место, куда отправился я по служебной надобности, оказалось таким же: со следами бывшей цивилизации, чего-то зыбкого, чужого, доставшегося странно, будто нежданное чужое наследство. Обсаженные деревьями узкие дороги там вели к несуществующим фольваркам, так же как видимые только с воздуха ригоры и финесы.
Восточная Пруссия есть место вечно делимое, поделённое, потому что границы менялись там часто. Часть стала Польшей (это русское сознание часто упускает), часть – Россией, как странное напоминание о нескольких годах русской власти, когда даже Кант, кажется, присягнул российской короне. Для одних – сон о потерянной Родине, для других – недавнее приобретение.
В Восточной Пруссии немало городов, но, рикошетируя от границ, повествование всё время возвращается к Кёнигсбергу, городу топологической загадки Эйлера: «Можно ли пройти по семи мостам через Прегель, не проходя ни по одному из них дважды?» Место, про которое один Герой Советского Союза, бывший лётчик, говорил: «Если задумал уезжать, то куда угодно, только не в Калининград! Понимаешь, я в гостинице „Москва“ спать не мог – голоса! Понимаешь: в номере, где я совсем один! Немецкие голоса! И ещё это город, где люди на улице всё время оглядываются… Откуда я знаю почему? Идёт – и оглянется; идёт – и оглянется!..»
Я жил как раз в этой гостинице с длинными коридорами и сотнями номеров. Голосов не слышал, но удивлялся гостинице как сказочному месту – с длинными разноуровневыми коридорами и запутанными переходами. Мой временный начальник, специалист по морским перевозкам, был похож на большого неухоженного гнома-переростка. Другой, его помощник, был патологическим антикоммунистом и оказался настоящим еврейским членом немецкой масонской ложи. От этого общения я проникся конспирологией.
В городе я зашёл на бывшую виллу Коха. В ней теперь была музыкальная школа с невнятным музеем Глиера. Напротив была городская дача для высшего морского командования. Начальница показывала нам эту дачу из окна и говорила:
– Хо-хо! Я знакома с комендантом этого дома…
При этом лицо её принимало какое-то задорное выражение.
Кох прожил длинную, девяностолетнюю жизнь. Ему в Польше присудили пожизненное, и он умер, как Гесс, – в тюрьме. Не факт, что он что-то знал про янтарь, но знал он довольно много – поэтому и понятно, что если его не грохнули в 1949-м, то как-то неловко его убивать, скажем, в каком-нибудь 1955-м.
Итак, пришли мы на концерт. Пришли ещё какие-то мордатые дети-бандиты, пыхтя, забились они на свободные места. И для них, и для нас сыграли «Два гренадера». Шаляпина не нашлось, и вот Шаляпина заменили виолончелью. Вышла настоящая преподавательница – сушёная, с лошадиным лицом, в больших круглых очках, вышла и вторая – симпатичная, похожая на вечную ученицу. Она-то, собственно, своей виолончелью и заменяла шаляпинский голос. Зачем я всё это запоминал – непонятно, более того, я всё записывал, будто непрошеный свидетель-соглядатай.
Видать, мне это было важно, а тогда мне что опус № 3, что опус № 4 – всё едино. Что хочешь, скажи, я на всё согласный, покладистый, только какая-то странная фраза крутилась у меня в голове – «Нотной грамоты знал хорошо» – как будто из воинской аттестации.
На каждом концерте, кстати, должен присутствовать человек, который отчётливо чихает и кашляет. В тот раз это был я.
Памятников в городе было много, но про знаменитые памятники говорить сложно.
Например, про быков писать неинтересно. Стояли, впрочем, на калининградской улице быки, олицетворявшие раньше две судебные силы – обвинение и защиту. Я там, на их фоне сидел на лавочке. Говорили, что студенты то ли красят, то ли чистят шкуркой этим быкам яйца перед выпуском.
Совсем в другом месте, рядом с городом на Балтике, что также менял своё имя в прошлом веке, было мореходное училище.
Это место тоже называлось по-разному – то Царским, то Детским Селом.
И до сих пор в нём, в том самом, где находится какая-то мореходка, курсанты в ночь под выпуск пролезают в парк и начищают наждачной бумагой левую грудь девушке, «что плачет, кувшин разбив».
У моих спутников была встреча в Светлогорске, и я поехал с ними. В такси трясло, но я всё равно задремал. Когда я открыл глаза, то увидел на обочине памятник: инопланетянин душит дельфина. Дельфин вырывался, хотел жить и выскальзывал из перчаток скафандра. А инопланетянин был страшный, с огромными ушами-крыльями. Только потом я узнал, что эта статуя, на манер гипсового пионера, открывает дорогу на базу отдыха рыбаков. Это рыбак был таким, в старинной шапке образца пятидесятых годов.
Яйца у него, правда, видны не были.
А про здание гестапо мне записать было нечего. Наследная организация внутрь не пускала, а снаружи здание было так ничего себе. Красивым.
Но дела были сделаны, и я снова наблюдал дорогу.
Я удивлялся патологической экономии настоящего масона, с которым ехал в купе. Железнодорожного белья он не брал никогда в жизни, а в кафе сидел в одиночестве и жевал свой бутербродик. «Может, надо было ему начать половую жизнь? – бормотал я про себя. – Может, это всё поправило бы»
Когда мы ехали обратно, я вспоминал другую историю. Раньше почти на каждой железнодорожной станции у поездов дальнего следования встречался такой дед, который якобы просто прогуливался в числе прочих пассажиров, но, приблизившись вплотную, вдруг быстро выдыхал в лицо вместе с запахом перегара: «Парень, купи, а?! Три штуки – за рубль. – Он вытаскивал из-за пазухи три солёных огурца в дырявом замызганном пакете. – У бабки украл. Бери скорей – сейчас ведь бабка хватится и сюда прибежит…»
Далеко я уехал от того времени, как вышел в тамбур, а неизвестный парень написал на стекле имя «Джохар».
А с другой стороны, вовсе не уезжал никуда, еду в том же вагоне, и внутри его те же запахи и те же люди. Просто проехал нужную станцию.
Давным-давно я смотрел на то, как в Вильнюсе международный путь отгорожен сеточкой-рабицей в стальных рамках, напоминающей забор на дачных участках. Считал столбы и шпалы, между делом думал про Александра Невского, зарубежного писателя Газданова и историю вообще. Один из героев Газданова, кажется в «Возвращении Будды», рассказывал, что писал статью на заказ. Он писал её даже не для журналиста, сосватавшего ему эту работу, а для какого-то не очень образованного французского депутата.
До заключительных страниц мне ещё было далеко, и я думал о Вестфальском мире с не меньшим нетерпением, чем Ришелье, но с той разницей, что мне были известны его последствия, которых французский кардинал, как, впрочем, любой его современник, предвидеть не мог и в свете которых вся политика Франции начала семнадцатого столетия приобретала совершенно иное значение, чем то, которое придавал ей сам кардинал и Père Joseph, страшный своим личным бескорыстием, по крайней мере внешним. Но чем больше я думал об этом старике, босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике – это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стремится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей и чья индивидуальность находит своё выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции.
Потом к герою приходила женщина, знакомство с которой двух персонажей привело к смерти, а самого героя – к недолгому тюремному заключению, повествование уводило свой фокус в сторону от исторических штудий, но тем не менее у меня в памяти эта газдановская история навязчиво ассоциировалась с моим всматриванием в новгородского выбранного князя.
Я не сильно любил поздние книги Газданова, его долгие периоды казались мне похожими на прозу Франсуазы Саган. Он, с его плавным течением речи, почти бюрократическими периодами, представлялся мне идеальным буржуазным чтением на ночь. Гостиница или международный вагон, мы миновали три границы, таможенники ушли, чай выпит, только тонко звенит пресловутая ложечка в тонком пустом стакане. Время хорошей беллетристики.
Однако давным-давно нужно мне было изложить на бумаге какие-то соображения о русской истории того времени, когда собирались на ледяных полях толпы людей по нескольку сот человек и принимались тыкать друг друга плохо заточенным железом. Впрочем, чаще они просто колошматили таких же людей, своих недругов, обычными дубинами.
Я сидел дома, и друзья бренчали пивным стеклом в моей прихожей по вечерам. Но утром я опять возвращался к Александру Невскому. Мне казалось, что это не фигура, одна из многих в кровавой мешанине, а на самом деле – мелкий и хитрый князёк, жестокий и коварный. Слова «на самом деле» из неоправданных и рисковых теперь казались мне справедливыми.
Я придумал уже название «Орден Александра Невского», в этом названии бился отзвук Тевтонского ордена и боевой советской награды, которую давали за маленькое успешное сражение.
Я вспоминал эти истории, потому что действительно читал Газданова в поезде, кругом были зимние леса. Пахло железной дорогой – углём и снегом, шпалами и сыростью. На полу купе происходила битва ботинок, что принадлежали моим попутчикам. Битва происходила среди пересечённой местности скомканного половика, а я шелестел страницами при слабом потаённом свете…
У Газданова в романе о женщине Эвелине и её друзьях было написано: «Она пила только крепкие напитки, у неё была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объясняющаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах».
Герой, сидя в медитативной пустоте своей парижской квартиры, рассуждал: «Я думал о неудобствах, вызываемых присутствием Эвелины. Все оказывались пострадавшими в той или иной степени – все, кроме Эвелины, никто из нас не мог ей сопротивляться, и никто не думал этого делать. Она могла быть утомительна и несносна, но никто из нас никогда не сказал ей ни одного резкого слова и не отказал ей ни в одном требовании. Никто из нас не понимал, почему мы это делали. По отношению к ней мы вели себя так, будто имели дело с каким-то отрицательным божеством, которое не следует раздражать ни в коем случае – и тогда, может быть, оно растворится и исчезнет».
Это было похоже на девушку, которую я знал, казалось, давным-давно.
И в железнодорожном сне, как в унылом кругу, я крутился в сплетении несуществующих мостов – Kramer-Brucke лавочного, зелёного Grune Brucke, потрошкового Kottel-Brucke, Schmiede-Brucke кузнечного, деревянного Holz-Brucke, высокого Hohe-Brucke и оставшегося Honig-Brucke медового. И даже восьмой, искусственно построенный Kaiser-Brucke не помогал делу… Хитрая топология бормотала мне что-то в ухо, как Снежная королева, – спи, усни, забудься, а завтра мы сложим из льдинок слово «вечность» и всё пойдёт иначе.
Но загадка Эйлера давно была решена, посрамив эту топологию, – мосты сожжены, а через Прегель, превратившийся в Преголю, перекинута бетонная эстакада.
Потом я потерял эту работу и уехал на чужую дачу.
Был у меня не друг, а просто знакомый человек с замечательной фамилией Редис. Жена Редиса погибла в автомобильной катастрофе, и Редис жил вместе с маленькой дочерью.
Дочь Редиса сейчас была с бабушкой, а Редис с нами.
Дача была огромной, зимней, оснащённой отоплением, ванной с горячей водой и туалетом. Жил я там вместе с двумя приятелями – Редисом и его другом, любителем Баха, тем самым Гусевым. Любитель Баха Гусев стал теперь учителем труда и по совместительству завучем. У Гусева были золотые руки – он сидел в школьной мастерской и в промежутках между уроками что-то паял и точил. Он действительно был любителем Баха, и место снятого портрета Ленина на школьной стене занял хмурый немец в парике. Гусев оставил свою квартиру бывшей жене и теперь скитался по чужим, оказываясь то на Шаболовке, то на Загородном шоссе в квартире с видом на сумасшедший дом, а то возвращаясь в квартиру каких-то своих родственников в Трёхпрудном переулке. Впрочем, это не было для него неудобством – он лишь перетаскивал из дома в дом огромные колонки, аппаратуру и ящики с компакт-дисками.
Я несколько месяцев жил у него, и мне всегда казалось, что стены выгибаются от работы этой техники. Однако соседи отчего-то молчали.
Сидя на этой даче, я договорился с Гусевым, что он наложит новую эмаль на мой орден взамен отлетевшей. Один из пяти лучей Красной Звезды облупился, и, хотя я его никогда не носил, это было обидно.
А пока Гусев говорил о своей бывшей жене, я молчал о своей – тоже бывшей.
Редису было нечего говорить – вспоминать о погибшей жене ему было тяжело. Да и жизнь Редиса была нелегка. Раньше Редис занимался важным для страны делом. Он был оптиком и придумывал телескоп для смотрения в окна. Дело в том, что в каждой занавеске есть отверстия и через них пробивается свет. То, что происходит на этих отверстиях, учёные люди называют Фурье-анализом. Редис занимался обратным процессом – Фурье-синтезом, собирая микроскопические пучки в единую картину. Он насаживал на телескоп трубу с дифракционной решёткой, подстраивал её, изменял угол наклона и достиг в конце концов необыкновенных результатов в этом подсматривании.
А теперь он был невесел. За его подсматривание перестали платить, вернее, перестали платить Редису. Жизнь теснила его, и если раньше он был солью этой земли, то теперь думал о какой-нибудь другой земле, которой могли бы пригодиться его таланты.
Время текло медленно, как стынущая в трубах вода.
Я читал странного писателя Бруно Шульца, положив ноги на армейский обогреватель. Над ухом, где стоял разбитый магнитофон, жил Бах, с которым мы вставали и поднимались. Коричные и перечные запахи Шульца, запахи дерева и пыли наполняли дачу. Австрия, Венгрия, Польша, Россия – всё сходилось на иудейской даче.
Говорили об истории и о политике.
Разговор как-то свернул на враньё.
Мы говорили о вранье государственном и частном, инициативном и вынужденном.
Слушая друзей, я вспомнил писателя Сахарнова, которого считали детским.
Он был жив ещё, но давно превратился для меня в книги. Сложно поверить, что человек, чьи книги ты читал в детстве, ещё жив, когда ты подрос.
У писателя Сахарнова был рассказ про морского петуха – триглу.
Там рассказывалось о том, как появилась в море новая рыба. Ласкиря (это тоже рыба) послали посмотреть на неё. Он вернулся и сообщил, что спина у новичка бурая, брюхо жёлтое, плавники как крылья, синие с золотом, а как опустится на дно, выпустит из-под головы шесть кривых шипов и пойдёт на них, как на ходулях. Идёт, шипами песок щупает. Найдёт червя – и в рот…
Другие рыбы не поверили ласкирю, посылали его вновь и вновь, и наконец он придумал, что на хвосте у неё чёрное пятнышко. Хотел, чтобы ему поверили, и поверили – раз чёрное пятнышко разглядел.
А потом оказалось, что всё так – и на ногах по дну ходит, и рычит рыба, но пятнышка нет.
Дальше Сахарнов писал: «Обрадовались рыбы, крабы. Схватили ласкиря и учинили ему трёпку. Не ври! Не ври!..
И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал?..
Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь?
Немного – одно пятнышко».
Это было даже не о политике, а так.
Я много раз был собеседником расставшихся пар или просто расстающихся.
Каждый из них рассказывал вполне убедительную историю.
И тут вдруг появлялась удивительная деталь, такая, которую не забудешь никогда.
Но позвольте, я ведь и там был и не помню этого – поражался я.
Но не проверишь ведь.
Мы всё время находимся в облаках мифологических сознаний. Всяк оправдывает своё право на мифологическое сознание. При этом становясь зеркальным отражением своего оппонента – раз ему можно, так и мне. Раз он скрыл что-то, то нам можно что-то придумать, додумать.
Вставить деталь.
Усилить, так сказать, позицию.
Всегда есть серая зона, где мы не знаем что-то точно, – она везде есть, в делах давно минувших дней и в ужасе современности.
И в рассказах о былых любовниках.
Вообще везде.
И вот всегда есть искушение добавить краски – и фольклорная деталь всегда срабатывает.
Человеческое сознание оправдывает любое допущение, которое высказано в нужном направлении.
Гусев, выслушав это, сказал:
– Про это есть смешная заметка математика Колмогорова о логике. Выглядит это как: Пусть [Р => Q] и [Q приятно]; тогда Р.
Он посмотрел мне в глаза, вспомнил что-то про нашу разницу в образовании и, заскучав, пояснил:
– Ну, типа, если нам комфортно новое сообщение, то оно истинно. Так будут рассказывать и про наше время – одни про то, что мы варили столярный клей, как в блокаду, другие – что мы бесились с жиру.
А так-то врут все. Вон что нам пять лет назад в журналах писали, а сейчас вот как-то поутихли. Вот уж детали так детали. В них, по слухам, сам дьявол сидит.
Мы гуляли в направлении водохранилища. Дойти до берега было нельзя, он охранялся, и будки замороженных милиционеров маячили на всех изгибах шоссе.
В лесу лежал мягкий снег, а мои знакомцы бегали, резвились, поднимали облака белой пыли.
Мы пили, и каждый день что-то другое. Я парил, варил, жарил кур – догадываюсь почему.
Должна была приехать к нам некая Дама, и Редис выходил даже её встречать.
Каждое утро он выбирался на пустынную платформу, занесённую снегом.
Мимо проходили поезда, но никто не сходил в пушистый снег.
Раз за разом он возвращался ни с чем, и мне стало казаться, что эта Дама больше похожа на чашу святого Грааля, чем на реальную женщину, а мы не просто разгильдяи, пьянствующие на чужой даче, а печальные рыцари Круглого стола, озабоченные её поисками.
Рыцари никогда не видели чаши и лишь надеялись на её существование.
Так и Дама, в существовании которой я уже начинал сомневаться.
Я рассказал про чашу святого Грааля своим приятелям. Гусев поддержал меня и сообщил, что когда-то в прежней жизни перезванивался с чашей, но вдруг оказалось, что застать её дома стало почти невозможно. Видимо, именно поэтому во мне проснулось желание самоутвердиться за кухонной плитой и в застольном разговоре.
Гусев между тем пил анисовую водку и говорил весело:
– Да, так это и бывает. Потом она начинает звонить тебе и говорит: «Вот сначала с этим твоим другом мне было хорошо, а потом уже не очень хорошо… Вот как ты думаешь, вот с другим твоим другом мне будет хорошо? Или нет?» При этом ты сам, как бывший муж, в расчёт не принимаешься.
Видно было, что все эти чувства в нём перегорели.
Стояли страшные морозы, дом, несмотря на работающее отопление, к утру вымораживало, но я спал на крохотной кровати между ребристой батареей и обогревателем, не чувствуя холода.
Как-то ночью я прокрался в сортир по ледяному полу, и когда спустил воду, тонко заныли трубы – долго и протяжно, будто жалуясь. Дом был настоящим деревенским домом, не дачей, не рубленой избушкой из сказок, а длинным бывшим бараком. Отовсюду торчали обстоятельства прошлого в виде труб, манометров, сочленений, болтов длиной в локоть и концов каких-то балок.
А наутро разговоры продолжились, и в них вдруг Редис показался мне удивительно похож на чеховского фон Корена с его либертарианскими идеями. Хотел Редис организованно отнять детей у деревенских пьяниц.
Иногда я поднимал голову и глядел в зазор шторы. Через него были видны деревья и зимнее небо, наполненное снежным мерцанием. Магнитофон жил у меня в изголовье, и я мог по собственному усмотрению менять кассеты. Я нашёл единственную в коллекции Гусева кассету не с Бахом, а с загадочной средневековой музыкой.
Коричные и перечные запахи Шульца кончились. Я стал читать совсем другую книгу, толстую и внушительную, в солидном тиснёном переплёте, найденную в книжном шкафу между Плинием и Махабхаратой.
Автор считал, что войны ведутся ради заключения мира.
«Как бы не так, – думал я, читая, – как бы не так. Это в твоё время, может, они и велись для заключения мира. А сейчас они ведутся для того, чтобы просто воевать. За три десятка лет до твоего рождения закончилась Тридцатилетняя война, а ты говоришь, что воюют ради того, чтобы заключить мир».
Я прочитал про то, как Мелхиседек обращался к Аврааму: «Да будет хвала Господу, передавшему врагов в твои руки», а Иосиф Флавий писал, что «естествен закон, по которому мы считаем врагами тех, кто имеет явное намерение лишить нас жизни», а Плиний замечал, что «дикие звери не сражаются между собой, однако же в случае насилия нет такого животного, в котором не закипел бы гнев, не пробудилось бы нетерпение от обиды и проворство к отважной самозащите от грозящей опасности», а некто Амвросий сказал, что «грешно – не сражаться само по себе, а сражаться ради добычи», а александрийские евреи отправляли послание какому-то Флакку: «Даже те части тела, которые сама природа предназначила для самозащиты, мы обращаем назад, потому что им нечего делать, так как наши тела обнажены перед вами, и мы с нетерпением ожидаем нападения тех, кто намерен их умертвить», Сенека же писал о том, что войны, предпринимаемые государственной властью, в отличие от простых убийств, ограждены почему-то от порицания, а Саллюстий писал, что единственная и древнейшая причина войны есть сильное желание власти и богатства.
Я узнал, что война делится на публичную и частную, на торжественную и нет, а также на справедливую и ещё неизвестно какую, видимо противопоставленную той, справедливой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Извините, перезвоните попозже… Перезвоните в другой раз… Оставьте ваше сообщение после гудка… (нем.)
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: