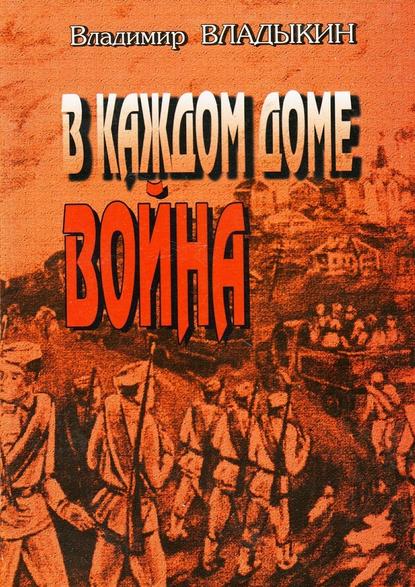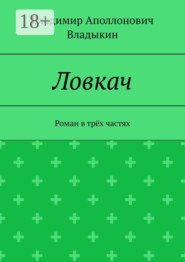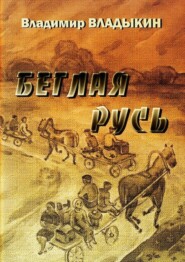По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В каждом доме война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А теперь шагай Фелица, мы и без тебя управимся тута! – сказал решительно Кеша, погладив по спине Нину, отчего девушка дёрнула резко плечами, словно слепень укусил её. Хозяйка не сразу встала; её вид являл растерянность; она жёстко поджала нижнюю губу. Кеша как-то недобро сверкнул глазами, и она тотчас ушла, вжимая в плечи голову с седыми волосами.
– Ты сходи, погляди, что делается у тебя на базу, а сена мы тебе обязательно отщипнём от колхозного стога. Там всё равно нет скота! – сказал ублажающим тоном Феоктист, косясь на Фелицату, стоявшую в другой горнице.
Фелицата Антоновна пожалела, что сразу не ушла после того, как подала закуску. Но её смущало то, что братья без неё совсем распояшутся, и в поисках золота и денег начнут рыскать по её комодам да сундукам: поставец перевернут, гардероб переворошат. А оно у неё почти и не водилось, да и не дура, чтобы прятать у себя в спальне. После смерти мужа, сделавшего ей в своё время тайник в подполье, она решила свои сбережения перепрятать подальше. У неё там хранились серебряные подстаканники, вилки, ложки, хлебница, старой чеканки монеты, перешедшие ей от родителей. Сама она нажила позолоченный портсигар, золотые часы, серьги, крестик на цепочке и золотые зубные коронки. Были ещё и старые ювелирные украшения как из золота, так и серебра. Всё своё богатство она хранила в маленьком сундучке, в амбаре под ларем. Деньги она прятала совсем в другом месте, для чего пришлось оторвать половицу и продолбить отверстие прямо под печку, чтобы вошла в него одна шкатулка и заставить отверстие кирпичом да обмазать его, затем присыпав землей. Под печкой не так было влажно, чтобы без опаски хранились деньги. На свои расходы она держала ещё и в заначке, чего раньше никогда не делала, а теперь другое время – люди донельзя озлобились, завидуют чужой удаче… Она испугалась, когда Феоктист заговорил про баз, а что, ежели они всё перевернули там, в амбаре, а сама смотрела под печку. И пошла, оглянувшись на полицаев с растерянным, искательным видом.
– Да иди, шагай, старая карга! – отчеканил грубо Кеша и смотрел, пока она не скрылась за дверью. – Во, а теперь, девы, погуляем, небось, сами от тоски замлели, – и он бедово подмигнул Нине, затем перевёл игриво-весёлый взор на Анфису, которую уже облюбовал Феоктист, выглядевшую зрелей и старше Нины. Эта хотя и была красивее, но очень тихая, скромная, в душе ничем его не воспламеняла. Но были и другие девки: вертлявые, весёлые, озорные, палец в рот не клади. Кеша с одной в пьяном виде провалялся на хозяйской постели, а вот имя её уже забыл, кажется, Винокурова. Рослая девка, на это отзывчиво-смышлёная.
Хуторской атаман Письменсков запрещал вступать в связь с подневольными, но это их всё равно не сдерживало. Случай один забавный был недавно: парень с девкой о чём-то переговаривались. Он служил полицаем. А потом выяснилось, что этот парень являлся связным подпольщиков, вызнававших через него о расписании полётов немецких эскадрилий. Потом его задержали с двумя минами с часовым механизмом, которые должен был пронести на аэродром. А девушку, естественно, тоже увезли в гестапо и больше о ней ничего не слыхали. Она была хуторская, местная…
Нина, первый раз в своей жизни, не без гадливого чувства, попробовала самогон, и от одного глотка у неё вдруг так сдавило дыхание, что она не могла ни продохнуть, ни выдохнуть; глаза налились слезами, как криница родниковой водой, и ком подкатил и застрял, точно галушка. А потом зашлась в отчаянно-безудержном кашле. Кеша посмеивался, его загорелое с лета лицо, казалось, намазано горчицей, а теперь, зимой, задубело от морозов и казалось совсем чёрным, только зловеще блестели серые глаза. Ему было около тридцати, но выглядел на все сорок. Феоктист старше брата, а на внешний вид – будто помоложе, зато его лицо было ещё крупнее. В отличие от Кеши он был не настолько зол на прежнюю власть, однако всё равно тоже, как и брат, не мог простить большевикам гибель отца и раннюю смерть матери.
Кеша подал Нине в кружке воды, и она сделала несколько облегчающих глотков. Девушка после еле отдышалась.
– Не могу я, а вы заставляете, – с обидой вырвалось у неё, посмотрев на Анфису, выпившую всю стопку самогона, чему немало подивилась и ей стало вдруг страшно, что Анфиса так поразительно легко ведёт себя, будто всегда пила самогон. А может и пила, ведь она раньше мало её знала. И Нина пожалела, что полицаи поселили их вместе, словно нарочно преследовали корыстную цель. Вот если бы она жила со Стешей Полосухиной, тогда бы вряд ли полицаи сейчас гуляли с ними. Ведь Стеша совсем не броская девушка, была вдобавок очень серьёзная. Хотя Нина тоже не считала себя записной красавицей. Она действительно о себе была почему-то не столь высокого мнения, хотя знала, что природа умудрилась, при её скромных физических данных, наделить выразительным лицом…
Но Анфиса отличалась от неё всеми качествами непростой девушки: и выученной, натренированной манерой говорить, и круглым, симпатичным лицом, и раскованным характером, умевшей владеть собой в любой обстановке. И, где бы ни появлялась, она сразу приковывала к себе внимание парней, но далеко не каждый отваживался заговорить с ней. Нине тоже в общении с подругой приходилось напрягать ум, чтобы выглядеть в её глазах более солидной, грамотной и культурной. Со Стешей, конечно, всё обстояло значительно проще из-за одного того, что она никого из себя не строила, – говорила почти необдуманно, и в её речах подчас немало проскальзывало глупостей, отражавшихся тогда и на поведении, чего порой она не сознавала. Анфиса же старалась быть во всём собранной, умной, вежливой, но почему-то избегавшая обычных девичьих посиделок, особенно в тех случаях, когда обсуждались чьи-то отношения, чья-то дружба с парнем, к каким была падка Маша Дмитрукова, кажется, больше кого бы то ни было. Но в них Нина тоже не участвовала, сторонилась, и не в её характере было сплетничать и высмеивать кого-либо. В этом она сходилась во мнении с Анфисой, и кажется, их что-то объединяло, в чём она убеждалась, живя с Анфисой на квартире. Правда, Нина страдала от одного того, что она безнадёжно уступала Анфисе своими непритязательными нарядами. И у неё пока не было ни одного шёлкового или шерстяного платья, в то время как Анфиса могла щеголять и шёлковыми, и крепдешиновыми, и шерстяными, и льняными, сшитыми вдобавок с притязаниями на модный фасон. У Нины было больше суконных или шерстяных юбок и кофточек, и блузок, не считая обычных, штапельных или сатиновых платьев. С собой она взяла только пару юбок, кофточек и прочих женских вещей. У Анфисы была одна юбка, нарядная блузка и шерстяные платья. На работу они надевали, естественно, что похуже, а сейчас перед полицаями Анфиса вырядилась как на праздник. Волосы она давно отрезала, сделала завивку, от которой со временем осталась одна видимость. Но все равно смотрелась по-взрослому. А Нина продолжала заплетать косу, делавшую её девочкой-подростком.
– Ничего, пить мы тебя научим. Вот так, – начал Иннокентий Корнеевич, налив стаканчик себе и брату. – Давай, Фео, ещё пропустим по стопарику, – и он поднял стопку, поднёс к губам, велев Нине смотреть, как он будет глотать первач. Полицай одним махом выдул, даже ни капли не скривившись; зато стал грызть огурец, да так смачно, будто никогда не ел солёного. Его брат последовал его примеру. Анфиса вилочкой аккуратно накалывала картошку и в рот не спеша, её полные круглые щёки рдели, как арбузная мякоть. Она улыбалась, поглядывая странно на Кешу.
– Давай, рубай! – воскликнул Кеша, толкая под локоть Нину. – Смотри, твоя товарка молотит – дай боже. Глотай горилку и лопай. Сколько потянешь, лапуня, а то как монашка на именинах…
– Чего, радость моя, раньше пить батька с маткой не давали? – баском вопросил Феоктист. – А теперь можно, к тому же Рождество Христово – грех не выпить, – снисходительно прибавил тот.
– А вы и в Бога веруете? – спросила Анфиса наигранным тоном, полным иронии; она полицаев не боялась и нисколько их не осуждала, не презирала, не ненавидела, что служили немцам, сбежав с фронта. Кто как умел, так и приспосабливался к сложившимся обстоятельствам в условиях оккупации. Но настанет время и они предстанут перед божеским судом, которого вряд ли кто минует – это она слыхала ещё от деда, да и мать читала вслух Библию…
– Все ходим под ним, что-то есть в мире такое, что неизбежно давит на судьбу… – проговорил со степенной задумчивостью Феоктист. – А ты на што намекаешь? – вдруг спросила он, уставясь сурово на девушку.
– Просто спросила – весь намёк в моем вопросе! – тихо ответила Анфиса.
– Небось, мысля подвернулась, что мы уподобились Иуде, предали интересы державы? – спросил манерно Кеша, яростно глядя на Анфису. – Откель тебе знать, что большевики не сыграли на чувствах народа, что они не предали народ, что они его не обокрали и его же кровью умыли? Это тебе известно? И я должен защищать такую власть? Кто как не большевики расстреляли царя и всю его семью. А нашего отца?
– Хорош тебе распинаться! – прервал Феоктист. – Им, думаешь, это надо знать, что они понимают в жизни – мокрощелки – вот их стихия, да, девки? Дальше носу вам совать вредно!
– Нет, дорогие мужчины, не знаю, как Нина, а я кое-что смыслю!.. Нечего хамить, унижать нас! – твёрдо ответила Анфиса. – Мой отец погиб от рук большевиков, я тоже не пылаю любовью к советской власти, достаточно знать, что всякая власть от бога и судить её ему.
– Слыхал, Кеша! Анфиска – жертва советов. Мать их так! Батя твой у кого служил? – спросил Феоктист.
– У белых! – смело отрезала она. Если бы не выпитая самогонка, она бы вряд ли призналась.
– А твой батя за кого? – спросил быстро Кеша у Нины так, словно об этом спохватился узнать слишком поздно.
– За красных, ну и что? А сейчас он работает в шахте… в Сибири. Но моего дядю посадили в коллективизацию, хотя воевал за красных, и в лагере пропал без вести…
– Дядя-то брат отца?
– Нет, мамкин, мы тогда жили в Калужской губернии. Сюда приехали по вербовке, когда был голод.
– А что же батя воевал за красных, сам или принудили? – спросил Кеша.
– Не знаю, тогда все воевали… – уклончиво ответила Нина.
– Это верно, только за разные интересы, – сказал Феоктист. – Но мы тебя, красотка, не судим, как говорил ирод народов, дочь за отца не отвечает, и с тебя его грехи списываются…
– А перед кем он виноват? – наивно спросила Нина, теребя свою косу, перекинутую через плечо.
– На том суде разберутся, подсказывает Анфиса, так, да? – злорадно усмехнулся Кеша. – А я знаю, что ты богом стращаешь не зря. – Злорадно, прищуривая глаза, протянул раздумчиво, с тайным значением полицай и продолжал: – Это мы ещё посмотрим, на чьей стороне правда; служа в полицаях, мы боремся с большевизмом, нам, думаешь, нравится, что немцы захватили державу, а пока другого выхода нет. Вот покончим с большевиками и немцев турнем под освободительным российским знаменем!
– Да я о вас и не думала, а сейчас удивлена, узнав, что есть такие люди, способные пойти против власти. А если не удастся победить, ведь под Москвой разбиты их лучшие дивизии?
– Ты откуда это узнала, нешто с подпольщиками связана, а? – вопросил Кеша.
– Все так говорят – слухами земля полнится, да от вас люди и узнали. Хозяйка нам первая сказала…
Полицаи заметно смутились, как-то свирепо и значительно переглянулись. Кеша снова наполнил стопки и повернулся к Нине, глядя жёстко:
– Глотай всю, ишь отродье красное, о чём тишком думает. Не пройдёт! – он вскинул руку и обрушил её на стол, вызвав тем самым взволнованный звон посуды. Нина от испуга взяла стопку, посмотрев на Анфису, как та примеривалась, чтобы опорожнить в себя стопку. И сама не заметила как выпила, полыхнув мимо всех обезумевшим взглядом.
В это время в сенях послышалась немецкая речь. Дверь оказалась не запертой, хозяйка бросила её так, а сама ходила по двору. Было темно, потом услышала голоса на улице, и лучи фонаря полоснули по забору. Вошли двое автоматчиков и с ними офицер. Фелицата Антоновна было схоронилась за угол хаты, но яркий, какой-то сияющий свет фонаря в руках у немца осветил её; она беспомощно закрылась руками, чувствуя как страх сжимает сердце, перехватывает дыхание. Немецкие солдаты по команде офицера осмотрели весь двор, баз, сараи, курник. Офицер допытывался: что она тут делает или ночью кого-то прятала? Баба в страхе быстро замотала головой, как немая, указывая и рукой на хату, и безумными от страха глазами.
Офицер осветил дверь, вошёл в сени и включил карманный электрофонарик. В горницу вступили немцы, Полицаи суетливо встали из-за стола, неуклюже поправляя на рукавах чёрных кителей белые повязки.
– О, какой девушка! – воскликнул офицер. А солдаты пошли шнырять по горницам. – Ви полицай? – спросил он у Кеши. – Штейн, а дёкумент сюда, шнель! – Кеша и Феоктист достали из боковых карманов пиджаков удостоверения. Офицер склонился над керосиновой лампой. А потом быстро поднял голову, воззрившись на полицаев: – Пошли вон, собаки! – отрезал офицер, ретиво указывая на дверь. Тут вмешалась хозяйка – и к полицаям.
– Ой, ребята, да я ни при чём! – плаксиво вырвалось у неё, боясь, что полицаи подумают, будто это она нажаловалась на них. Офицер, обернувшись, накричал на неё, а полицаи в суматошной спешке, хватали свои пожитки, карабины и вымётывались прочь без оглядки.
Девушки встали из-за стола. Офицер внимательно осматривал их, затем потребовал предъявить документы, выданные им в немецкой комендатуре по прибытию в хутор. У Нины и Анфисы были справки, свидетельствовавшие, что они служат на аэродроме. Офицер терпеливо ждал пока они отлучались в свою горницу…
Прочитав после их бумажки, он козырнул, посмотрел на перепуганную хозяйку, и, скомандовав что-то жестом, относящимся к солдатам, пошёл из хаты…
Глава 22
Утром девушки собирались возле немецкой комендатуры. Здесь же толкались полицаи: они курили, смотрели на невольниц, плотоядно и хищно улыбались им. Братья Свербилины появились чуть позже всех, они были довольно хмуры и неприветливы. Зашли в комендатуру, потом подогнали фургон, и затем в него грубо, как скот, прикладами карабинов затолкали девушек.
До этих пор их гоняли на аэродром через луга, и вот вдруг посадили всех в машину. «С чего бы это»? – зароптали девушки, неужто повезут в Германию? Однако кто-то сказал, что без вещей не угонят. Тут что-то другое, а потом влезли и сами полицаи и два немецких автоматчика.
Нина и Анфиса старались не смотреть на полицаев, которые из-за вчерашней неудачи сидели напыщенные, как сычи. Курили немецкие папиросы. Иногда они взглядывали на девушек и опускали глаза. Раньше их конвоировали одни полицаи, а теперь вот и солдаты примазались. Им не положено заговаривать с подневольными. И сами девушки тоже молчали. На работе боялись общаться между собой – за этим строго следили часовые и надзиратели. А на самом аэродроме девушек обыскивали женщины в немецкой форме, говорившие на вражеском языке…
В последнюю неделю декабря мороз немного ослаб. Но от ветра, дувшего с востока, было всё равно также холодно. Небо затянулось плотной серой пеленой и снег тоже казался серым и чернел крапинками брызг от горючего и копоти выхлопных труб вдоль накатанной техникой дороги, по которой туда и обратно шли лобастые, пятнистые, припорошенные снегом грузовики и фургоны. Однажды девушки увидели военнопленных, шедших под усиленным конвоем с собаками, которые свирепо лаяли на пленных солдат. Зачем-то невольниц повезли мимо них окружным путём, это сразу наводило на тревожные мысли. Фургон въехал на каменный мост через реку Тузлов, а в трёхстах метрах по железнодорожному мосту прошёл немецкий эшелон с военной техникой, затянутой брезентом с зенитными установками, которые стояли и по обе стороны моста; от паровоза валил чёрный дым.
…Девушек привезли на станцию, где велели им выгрузиться, построиться и ждать дальнейшей команды. Они ловили взглядами полицаев, стоявших тут же, прикуривавших папиросы. Хотели у них узнать, что всё это значит, но те будто нарочно их не замечали. Правда, иногда отстранённо взирали, затем лениво смотрели на платформу, по которой прохаживались попарно часовые. На сторожевых вышках торчали стволы крупнокалиберных пулемётов и смотрели в бинокли солдаты. Наконец вдали послышался характерный шум и шипение паровоза, издававшего короткие оповестительные гудки. Затем показались наши столыпинские вагоны. Поезд как-то резко замедлял ход, пока совсем не остановился, выпуская тучи иссеро-белого пара.
Открывались вагонные двери, ходившие на роликах, из вагонов выпрыгивали немецкие солдаты. Затем открылись склады, откуда девушки стали выносить мешки с мукой. Разумеется, ни одна сама не донесла бы тяжёлый, многопудовый мешок до вагона, где их принимали наши военнопленные и укладывали штабелями на солому. Этой погрузкой занимались весь день в основном девушки и женщины. И так умаялись, что к вечеру еле ноги тащили, полицаи нервно покрикивали, подгоняли, мол, нечего симулировать и тянуть зря время…
Когда невольниц строем вели в столовую, Нина увидела там Арину Горобцову, которую, если бы она не узнала, то вряд ли когда они ещё могли встретиться. Арина была весьма рослая, худая, с большими голубыми глазами, с прямым, чуть приплюснутым носом. Встреча их произошла как раз у окна раздачи пищи. Нина долго смотрела на неё, боясь подойти к Арине, но та её тоже заметила. Наконец Нина подошла и спросила:
– Ты Арина Горобцова?
– Да, а в чём дело? – удивлённо спросила девушка.