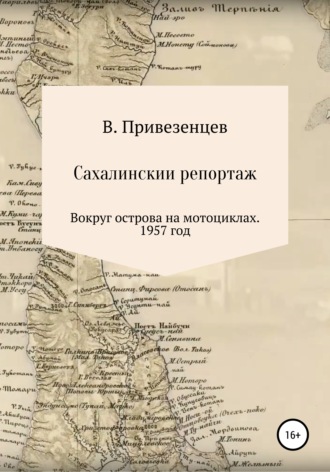
Сахалинский репортаж. Вокруг острова на мотоциклах. 1957 год
Нефть тоже совершает своеобразное путешествие. С берега нефтепровод ныряет в море. Нитка труб тянется по дну почти на шесть километров. Ее конец обозначен крупным буем.
Когда приходит танкер, конец нефтепровода поднимают на поверхность. В «танки» льется густая черная жидкость, напоминающая мазут. Когда они наполняются, гибкие трубы снова опускают на дно.
Танкер уходит, и буй, остающийся на поверхности, шторм может трепать, сколько ему вздумается.
В Набиле работают нефтяники, моряки, водолазы.
Борьба с природой не прекращается здесь ни на день, ни на час. Борьба не на жизнь, а на смерть – для жизни. Это не фраза: человек еще не всегда оказывается сильнее стихии.
Мы не знаем, как обозначен в морских лоциях мыс, прикрывающий с севера вход в Набильский залив. Здесь его называют "мыс Тамары". И не иначе.
На песке стоит маяк, напоминающий крепостную башню. Неподалеку от него – могила.
Бетой, сталь, гранит.
На полированном камне – фотография улыбающейся девушки и надпись:
ПАМЯТИ МОРЯКА ТАМАРЫ ВОРОТЫНЦЕВОЙ
1929 – 1949
Погибла 10 августа 1949 года
при исполнении служебного долга.
Покоится в море с самоходной
баржей «Волга» на траверзе
этого мыса.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НЕЙ!
Водитель мотодрезины, доставивший нас в Набиль, парень, черный от соляра и ветра, неторопливо, иногда совсем останавливаясь, ведет рассказ:
– Лето у нас короткое, навигация – три месяца… Со всем надо успеть, все надо завезти. Поэтому работать приходится горячо, быстро… Так было и летом в сорок девятом году. Пришел тогда пароход «Аргунь», а вместе с ним три или четыре плавединицы из москальвинского порта.
Начали разгрузку – спешили: как бы погода не подвела. Тут и случилось несчастье. Соскочил трос, подъемник на «С-80» с трехметровой высоты ударил в борт «самоходки» – ну, она и перевернулась!. На барже внутри оказалась только Тамара Воротынцева, остальных с палубы швырнуло в море.
Произошло это километрах в пяти от берега. Сами понимаете, в открытом море не так легко оказать помощь. Но люди не теряли надежды. Тем более, что и раньше у нас такие происшествия случались. Я помню, перевернулась однажды баржа, в которой возвращались из отпуска три семьи. Так они девять часов просидели в перевернутой барже в воде. Вытащили их на берег, прорезали дно автогеном, и вылезал народ из баржи, как Иона из чрева кита…
…Говорят, Тамара жива была, стучала по обшивке – знак подавала… Надеялись ее спасти. Но ничего не вышло. Срывались крюки с баржи, хлебнула она воды, вздыбилась и пошла камнем на дно… Без следа… И водолазы потом не нашли…
Обнажив головы, мы долго стоим перед памятником.
Рядом бьется о берег холодное Охотское море, расстилает по песку кружева пены, поет песню о суровой доле, о борьбе, о мужестве.
Полосами, волнами находит с моря холодная белая мгла.
Иногда порывы ветра открывают перспективу Набильского залива, катера у пирсов, огромные емкости для нефти, ломаную линию узкоколейки…
Растет производство в Катангли – улучшается и быт тружеников самого отдаленного нефтяного промысла.
Строительно-монтажное управление треста «Сахалин-спецнефтестрой» ведет сооружение многокилометровой линии водопровода, который будет доставлять в поселок воду с Тыми. Мы познакомились со строительствам новой школы-десятилетки и дома для учителей. Это двухэтажные, хорошо срубленные здания. Применяется в строительстве интересная новинка – опилкобетон.
Со стройки возвращались через большой пустырь. Шереметинский неожиданно остановился и сказал:
– А здесь будет – стадион!.. Видите колышки? Это планировка. Собираемся строить у себя крупнейший на Сахалине спортивный зал. А во время войны на этом пустыре мы били медведя…
Тайга еще стучится в поселок. И сейчас живут в нем два медвежонка, пойманные неподалеку от промысла. Но все сильнее чувствуется в Катангли тепло человеческого жилья.
На волейбольной площадке рядом с нефтепромысловым управлением в вечерних сумерках разгорелось жаркое сражение.
Игроков ничуть не смущает то обстоятельство, что мяч ежесекундно может удрать под откос.
Избушка, стоящая на отлете, отдана духовому оркестру. Оттуда доносится низкое гудение меди. Там можно усиленно развивать легкие без ущерба для нервной системы соседей.
Заполнен клуб управления. На сцену глядят десятки блестящих задорных глаз. На трибуне – паренек в гимнастерке, секретарь комсомольской организации.
– Комсомольцы «Катанглинефти» откликнулись на призыв грозненцев о сборе разлитой нефти и экономии нефтепродуктов. К празднику Октября мы обязались собрать четыреста тонн нефти. Уже сейчас только вручную собрано более ста сорока тонн.
Он приводит интересный пример. Рабочий по очистке мерников Раис Минулин соорудил несколько примитивных ловушек для нефти. Ведром и черпаком он один собрал пять тони топлива, сберег для государства большие средства.
Не только успешно трудиться, но и хорошо отдыхать умеют молодые катанглийцы. В этом году участники художественной самодеятельности поселка дали четырнадцать концертов. В каждом цехе, в каждой нефтедобывающей бригаде созданы спортивные секции. Физкультурники промысла завоевали четыре районных кубка!
… Мы покидали Катангли поздно вечером. Юго-восточный ветер, или как его тут называют «ветер с гнилого угла», гнал волнами на поселок нефтяников тяжелую белую пелену. Туман здесь не похож на легкую дымку, смягчающую краски, от него в горле першит, как от пыли.
Из Ноглик на север, в Оху, мы предполагали двигаться только своим ходом. Но планы оказались в явном противоречии с действительностью. Секретарь райкома дружески уговаривал нас:
– Не лезьте туда на мотоциклах. Ни пешему, ни конному дороги нет. По крайней мере, до Нутово. Все мосты снесены последними паводками.
Машины поднялись на платформу узкоколейки, паровоз коротко свистнул, станция с водокачкой остались позади, и из вольных мотоциклистов, привыкших управлять своей скоростью и временем, мы превратились в самых унылых пассажиров на свете.
Нет, наверное, поезда более медлительного, чем тот, что ходит по охинской внутрипромысловой дороге. Поскрипывая платформами и вагончиками, карабкается он с одного песчаного холма на другой. По прямой – пятнадцать километров в час, на закруглениях – пять.
Мимо проплывают болотистые мари, тянущиеся вдоль восточного берега на десятки километров, тощие лиственницы с изогнутыми вершинами.
И так – час за часом. Хочется соскочить с платформы и толкать ленивый состав собственными руками.
На остановке машинист Андрей Гребениченко, смазывая из жестяной масленки суставы своему стальному коню, журит нас:
– Да куда вам торопиться! Успеете, увидите…
Наконец Даги. Это не станция, даже не полустанок, а просто – остановка поезда.
У железнодорожной насыпи поднялся одноэтажный дом. Свежий сруб еще не успел потемнеть от дождя и ветра.
Больше ничего кругом нет, тайга вплотную подступает к дому и железной дороге. Очень одиноко, наверное, тут жить путевому обходчику!
Остановка обещана короткая, поэтому, соскочив с поезда, летим сломя голову к горячим ключам Даги.
Мимо дома дощатый тротуар ведет в сторону моря, к развесистым лиственницам. Так вот, как они выглядят, горячие ключи!
Под деревьями на топи стоит тесовая будка. Из распахнутой двери курится парок. Внутри – тесная раздевалка и деревянная ванна со ступеньками. Через прозрачную воду видны дно водоема и черная дыра в нем, из которой кверху тянется серебристая струйка пузырьков.
Кто-то нетерпеливо сует руку в воду и тотчас выдергивает ее назад. Горячо!
– Тут купаться нельзя: сорок восемь градусов, – говорит главный кондуктор Валентин Буров. – Можно только умываться.
За первой будкой – вторая, чуть поодаль – третья. Тоже ключи. В одном температура тридцать девять градусов, в другом – тринадцать.
Среди зеленой осоки темнеют ямы с горячей водой. Оказывается, ключей тут великое множество. Сколько точно – никто не знает, не подсчитывали. Говорят, на глазок – более двухсот.
Решили в будку не лезть, а искупаться на свежем воздухе. Гребениченко, с наслаждением обливаясь теплой молочного цвета водой, рассказывает:
– Зимой тут хорошо!.. Едешь поездом – за много километров виден пар над лесом. Разденешься на морозе и в горячую воду – бултых! Сидишь, как в ванне, а кругом трава зеленая, а чуть дальше – снег.
Накупавшись вдоволь и отведав из холодного питьевого ключа воды, сильно отдающей серой, мы возвращаемся к поезду.
Первыми начали пользоваться лечебными ваннами жители здешних мест – орочены-оленеводы. В Ногликах и Охе мы очень много слышали о целебной силе этих ключей. Нам рассказывали о подлинных «чудесах», о том, как люди, серьезно больные ревматизмом или радикулитом, вновь обретали подвижность, о том, что некоторые тяжелые кожные болезни излечивались здесь за неделю.
Но не прибавила ли силы горячим ключям молва?
Мы видели в тайге сохранившиеся шалаши. Люди приезжали сюда безо всяких врачебных направлений, сами строили себе жилище из веток, варили на костре еду, принимали процедуры.
– Был со мной такой случай, – вспоминает машинист. – Начался фурункулез. Посоветовали выкупаться. Сходил – и как рукой сняло! А может быть просто совпадение…
– Хорошие ключи! – вмешивается в разговор кондуктор. – Иначе – для чего бы здесь лечебницу выстроили?
Какую лечебницу?
Оказалось, в спешке мы не заметили самого главного. Дом у дороги принадлежит не путевому обходчику. Это новая водогрязелечебница Восточно-Сахалинского райздрава.
Навстречу шагает высокий человек, в белом халате. Да это же Корецкий, Роман Михайлович! Старый сахалинец, фельдшер, много лет проработавший в национальном колхозе «Чайво», человек, завоевавший настоящую любовь среди эвенков, ороченов и нивхов. Теперь он стал руководителем лечебницы. И как мы успели заметить, большим патриотом своего дела.
– Ключи у нас, действительно, выдающиеся… – сообщает Корецкий. – Приезжали сюда крупные специалисты, проводили обследование. Говорят, грязи и воды очень близки к мацестинским… Список болезней, которые можно лечить, на странице не уместишь… Вот, например…
Подходит здоровый круглолицый парень, прислушивается к разговору. Слесарь с нефтеразведки «Одопта» Николай Фаттахов полтора года назад заболел полиартритом. Испытывал жесточайшие боли, передвигался только на костылях. Дело дошло до того, что, по собственным словам, больной не мог поднять с пола чайник с кипятком. Тринадцать месяцев пролежал в различных больницах. Без результата, в лечебнице находится две недели. Костыли уже выброшены, упражнения утренней зарядки Николай выполняет с колесной парой от вагонетки.
– Лечебница, как видите, новая, – продолжает рассказ фельдшер. – Свежевыстроенная. Даже открыть еще не успели.
– А сколько больных может здесь лечиться?
– Рассчитана она на шесть коек…
Едут и едут лечиться в Даги жители северного Сахалина. Из Кировского и Широкопадского, из Рыбновского и Александровского, из Охтинского и Восточно-Сахалинского районов. Может быть, здесь нужна не маленькая лечебница, а хороший санаторий «Даги», мест так, скажем, на двести?
Севернее 52-й параллели
В лабиринте таежных дорог. – По тракторному следу. – О тех, кто идет первыми. – В будке по снежной пустыне. – Здесь будет город заложен. – Рождение промысла. – Год победы. – Последние километры на север.
Теперь мы точно знаем, где начало сахалинского севера.
Взгляните на карту.
За мысом Лах и Ныйским заливом проходит 52-я параллель. Вот тут все и начинается: топи, болота, прибитый ветром северный подлесок, олени и полчища комаров.
Для мотоциклистов разница между югом и севером была особенно разительной. Еще позавчера мы проезжали по солнечной, ласковой долине Тыми, а сегодня в наши лица бьет холодный ветер с Охотского моря. Ни зверя, ни птицы… Лишь изредка на кривой вершине дерева можно увидеть недвижного орлана.
И все-таки жизнь в тайге бьет ключом!
С ее первым проявлением мы столкнулись при не совсем обычных обстоятельствах.
В сумерки машины: поднимались от станции Нутово по крутому песчаному холму.
– Стой!
– Борис Попов подавал отчаянные сигналы, остановив мотоциклы на повороте, который мы проглядели.
Перед нами лежали две дороги, совершенно одинаковые, желтые от песка, с ровными шашечками автомобильных следов.
По которой ехать?
– Наше дело правое! Поедем направо!
За неимением лучшего довода пришлось согласиться с этим. Поехали направо. Через несколько километров снова крик: «Стой!» и опять развилок.
В краю нефтеразведчиков тайга оказалась исхлестанной десятками дорог. Сколько разведок, отрядов, буровых – столько и путей. Старые заброшенные дороги не зарастают ни кустарником, ни ягелем и имеют такой вид, словно и по сей день по ним ходят машины. Они переплетаются, сходятся и раскалятся, образуя запутанный лабиринт, разобраться в котором могут только бывалые местные шоферы.
В конце концов, махнув на все рукой, едем в ночи, наугад, полагаясь только на собственное чутье. А оно – весьма ненадежный компас.
Мелькнули за деревьями огоньки.
Пильтун?
Нет, поселок оказывается небольшим.
Здесь еще не спят: из окон льется мягкий электрический свет.
Человек, вышедший из крайнего домика, смеется:
– Ну, ребята, дали вы крюка! Здесь находится отряд пильтунской разведки. А сам Пильтун – там!
Человек машет рукой в сторону леса.
– Ничего!.. Вот дорога прямая. Трактор тут тридцать минут ходит…
Так то трактор!
Мы смеялись, возмущались и снова смеялись, пробираясь в тайге по свежему тракторному следу. Могучая машина шла здесь напролом, подминая под себя кустарник и тонкие деревца. Мотоциклы карабкаются по бурелому, рвутся из рук, ежеминутно они готовы перевернуться и накрыть водителя и седока.
В эту ночь мы сами, довольно смутно представляли, куда едем. И только на рассвете выяснилось, что колонна все-таки идет правильно.
Машины увязли в сыпучем песке. Мотоциклисты отдыхали, привалившись к коляскам. Начинался новый день. На востоке небо чуть посветлело. Едва заметно вырисовывались вдалеке очертания каких-то построек, насыпи узкоколейки, моста.
Мы находимся в тех местах, где идет борьба за будущее сахалинской нефти.
В суровом северном краю, где борьба, начатая с природой тридцать лет назад, не прекращается по сей день, есть свой передний край. Он проходит по восточному берегу, пересекает обглоданную ветром Пильтунскую косу и мелководный залив, углубляется в редколесье.
«Одопта», «Южное Сабо», «Тоси» – эти названия все чаще звучат в разговорах геологов, разведчиков, буровиков. С ними связаны планы и надежды.
На огромной площади, где летом тракторы тонут в болотах, где зимой царствуют мороз и ветер, разбросаны пока только мелкие опорные пункты – землянки и будки разведчиков, домики и одинокие буровые поисковиков.
Дичь и глушь видит здесь глаз постороннего человека, а для нефтяника, склонившегося над картой, безмолвие расцветает жизнью, наполняется стуком топоров, стрельбой дизелей, ревом газового пламени.
Вот 18-й городок, крошечный поселок у железной дороги, база разведчиков переднего края – сейсмиков. Мы хорошо помним свою недавнюю поездку сюда, встречи с мужественными искателями, с теми, кто идет в тайге первыми.
Это было зимой…
Нарушив все и всякие графики, поезд прибыл к 18-му городку только ночью. Вокруг морозная тьма. Ни звезды, ни огонька.
База геофизиков – несколько домиков и бараков – засыпана снегом. Без провожатого не разобраться в лабиринте сугробов, развороченных и растоптанных гусеницами тракторов.
Но вот, наконец, вход в дом – узкий снежный лаз. Стоит спуститься вниз и распахнуть дверь, как картина мгновенно меняется. Нет больше ни мороза, ни тьмы. В белой комнате под потолком ярко сияет электрическая лампа. Пышет жаром печь. Над походными столиками, заваленными длинными бумажными лентами, склонились люди в обычных городских костюмах.
Темноволосая девушка поднимает голову.
– Да, база сейсмиков здесь…
Это Рита Юдина, старший интерпретатор, главный человек на базе. Под ее руководством обрабатываются ленты с длинными волнистыми кривыми, ложатся на ватман профили пластов.
– Ну вот, вся наша работа у вас на виду, – говорит Рита. – Работа, как видите, неинтересная, чисто техническая. Вот если бы вам на профиле побывать!..
Где-то за ночью, за ветром, на льду Пильтунского залива и косе работают два отряда сейсмиков. Но где же их искать? Старший интерпретатор разворачивает карту:
– Сказать точно, где находятся отряды, нельзя. Они все время в движении. Неделю назад они были здесь… Завтра на профиль выходит наш старший рабочий. Он вас проводит.
…Идти легко. Наст, отполированный пургой, крепок, и ноги почти не проваливаются. Старший рабочий Борис Воронов шагает, как бывалый ходок. Через два с половиной часа он легко взбегает на огромный снежный надув.
Началась Пильтунская коса. Эта узкая полоска земли отделяет залив от Охотского моря. Покрыта она косматыми лапами стланика, в вышину здесь растут только корявые лиственницы.
В снегу стоит будка на тракторных санях – полевая база топографов, обслуживающих отряды. Распахивается дверь и на мороз выскакивает… человек в майке.
Борис смеется.
– Не удивляйтесь, это наш повар Сафа Ибрагимов. Видно, жарко у печки…
Сафа оказался веселым парнем.
– У всех работа, понимаете, – говорит он, – а у меня видали: щи, компот, оладьи. А я, думаете, не топограф? Конечно, топограф. Да что поделаешь… Собрали общее собрание и говорят: хватит, мол, готовить всем по очереди, пусть Сафа будет постоянным поваром, у него к этому делу призвание есть…
«Выборный» повар рассказал нам о том, что топографы в шесть утра уехали в двух будках на залив. Будут только к вечеру.
Членов отряда – техников Василия Арсеньева и Бориса Горожанкина, рабочих Сашу Мачнева, Валерия Ревина и Ивана Мищенко – здесь в шутку переименовали в «топ-отряд». Десятки километров профилей пробивали они каждый месяц для сейсмических отрядов.
– Ребята к сейсмикам поехали, – добавляет Сафа. – Далеко ли? Да нет, недалеко. Вдоль косы километров двенадцать будет…
Кажется, должны работать в этой смежной пустыне необыкновенные «чудо-богатыри». И вот первая неожиданность. Начальником партии оказывается женщина. Да, молодая женщина – Эльвира Сергеевна Карманова, выпускница Московского университета.
В тесной металлической будке она сидит перед еейсмоетан-цией и просматривает розовые ленты фотобумаги, еще сырые от проявителя.
– «Момента» нет, Ильич, – говорит она. – Повторим.
Из динамика, который висит на стене, раздается голос взрывника:
– «Деготь пятый», я «первый». Давайте команду.
Связь в отряде осуществляется только по радио. Инженер-оператор Алексей Ильич Григоренко наклоняется к микрофону:
– «Деготь первый», даю команду. Приготовились… Внимание… Р-раз!
Толчок. В нескольких сотнях метров от станции в воздух взлетает столб снега, воды, льда и грунта. Упругая волна направляется в глубь земли. Аппарат записывает отражения волны от различных пластов.
Проявленная лента ложится на лист фанеры, и лица инженеров светлеют.
– Есть «момент»! Нефти, правда, здесь не увидишь, но это и не обязательно, – смеется Григоренко. – Вы видели фильм «Остров Сахалин»? Там есть кадры, в которых показана работа вашей станции. Съемки производились в районе Некрасовки. Снимали все правильно. Но затем получился казус. Когда на экране появляются операторы, рассматривающие ленту, диктор с подъемом говорит: «Здесь будет нефть!». Я когда услышал эту фразу, готов был сквозь землю провалиться. Дело в том, что наличие нефти по ленте определить совершенно невозможно. Это нелепица. Мы устанавливаем лишь расположение пластов. Пожалуй, извинить авторов сценария может только то, что здесь действительно была нефть. В канун нового года в Некрасовке ударил фонтан. Слышали? И нефть большая. Не напрасно, значит, мы прошли зимой в тех местах сто семьдесят шесть километров.
Снова команда и снова взрыв. Затем тракторный поезд двигается на новую точку. Черев километр работает еще одна станция – инженера-оператора Михаила Машина.
– Как видите, все очень просто, – говорит Эльвира Сергеевна. – Главное для нас – не стоять на месте.
Да, очень просто и очень сложно.
Кому труднее всех работать в снежной пустыне? Ответ единодушен – трактористам. Когда партия пришла на Пильтунский залив, лед был еще недостаточно прочным. Он не выдерживал веса тракторов, грузные машины проваливались и вмерзали в лед. А в тундре трактор – это жизнь. Разведчики взрывали лед вокруг машин и с помощью восьми тракторов вырывали из плена обледеневшую глыбу. Затем кудесники-механики разводили огонь вокруг машины, отогревали ее, вводили в строй.
Потом лед стал крепче, но крепче стал и мороз. Десятки раз в день заводят на пронизывающем ветру остывающие тракторы Алексей Васильев, Владимир Дарюнин. Жирная копоть садится на лица, трактористы начинают походить на кочегаров. Руки уже не чувствуют огня. Этот труд – подвиг каждодневный и ежечасный.
Но разве легко другим членам коллектива разведчиков? Целый день шагают по снегу Вячеслав Бородин, Мария Малявко, Валентина Баранова, разбрасывая косы – длинные проводники, разнося тяжелые «фартуки» с приборами. Взрыв за взрывом с огромной аккуратностью и большой точностью производят техник Александр Шапочкин, рабочие-взрывники Нина Ивлева, Петр Григорьев, Анатолий Алексеенко.
Начинается вечер. Он так же необычен в партии, как и день. В эфире все собираются вместе. С базы должен прийти трактор с горючим. Нужно попутно захватить все необходимое. Радист взывает к невидимому товарищу на радиоязыке:
– Емкость захвати, – емкость захвати…
– Микрофараду? – микрофараду?…
– Ноль пять, – ноль пять…
– Вас понял, – вас понял…
Стряпуха вздыхает с облегчением: ужин, приготовленный на ходу, она раздаст в спокойной обстановке. Техник-оператор Виктор Ершов возится с аккумулятором, собирается ловить навагу на электросвет. Кто-то жалуется, что механизаторы забрали в свою будку все комплекты шахмат, кто-то ищет недочитанную книгу.
В сейсмостанции включают радио. Идет передача из Москвы. Тонкий провод от приемника тянется во вторую жилую будку.
Несколько будок и тракторов стоят в морозной пустыне. Тьма вокруг. И только над головой крупные, как горошины, звезды. Постепенно сон берет свое. Укладываясь на узкой скамейке в сейсмостанции, Алексей Ильич договаривается со старшим рабочим:
– Давай, Митя, ляжем поверх мешков. А то проспим, станцию подморозим. Нужно будет ночью дров подкинуть.
А утром в ведро на раскаленной печке летит глыба белого, как рафинад, снега. Михаил Машин, бросая в лицо пригоршни холодной воды, весело бормочет:
– Здесь будет… город заложен…
Где теперь кочуют эти волевые люди, оптимисты по природе, не боящиеся никаких трудностей? В каких уголках тайги прокладывают они новые пути?
Сонно шумят в ответ лиственницы. С востока, где расцветает зарево нового дня, тянет тонкий предутренний ветерок. Аркадий трогает ногой кик-стартер остывшего двигателя.
– Пошли!
Все яснее становится кругом. Светлеет впереди дорога. Через несколько десятков минут въезжаем в поселок с ровными шеренгами домов, расчищенными улицами.
Вышла на крылечко женщина в платке. Кто-то из ребят, не слишком сведущий в местных наименованиях, кричит на ходу.
Эй, бабуся! Как эта деревня называется? В ответе звучит неожиданная обида:
– Сами вы деревня! Это ж нефтеразведка Сабо!..
Здравствуй, Сабо, – нефтеразведка и промысел, выросший за короткий срок на глазах у всех сахалинцев!
Главный геолог Валентин Тараканов, отодвинув в сторону кругляши сероватой глины и пробирки с маслянистыми растворами, задумчиво повторил:
– Как мы начинали? Не так-то легко вспомнить: много прошло событий… Но все же попробуем.
В кабинет то и дело заходят люди – коллекторы, буровики, трактористы, – прислушиваются к разговору, усаживаются у стола. Главный геолог рассказывает суховато, то и дело обращается за справкой к большой карте, на которой тонкими линиями обозначена сабинская структура.
Но собеседники часто прерывают его, и рассказ украшается такими подробностями, что рука невольно тянется к блокноту.
Мы записали историю Сабо, рассказанную самими строителями нефтеразведки.
…Летом по речке, которую нивхи с древнейших времен называют Сабо, кочевала геологическая партия Валентины Дмитриевны Бутиной. По вечерам геологи собирались у костра, варили ужин, а с первыми лучами солнца вновь принимались за работу.
Они пробивали шурфы, неглубокие, до трех метров скважины. Когда тайга была исхожена вдоль и поперек, геологи пришли к выводу: «Здесь может быть нефть».

