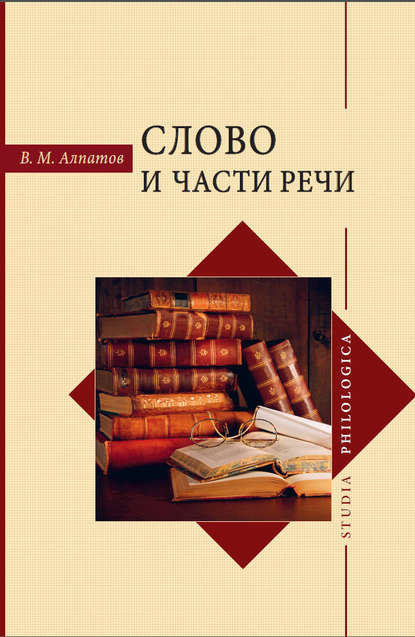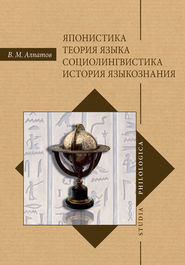По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слово и части речи
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1.4.5. Лексические слова (лексема и вокабула)
Все рассмотренные выше единицы не являются непосредственно семантическими. В то же время традиционно слово понимается, прежде всего, как номинативная единица, обладающая значением и отличающаяся в этом плане от других значимых единиц языка: такое его понимание лежит в основе многовековой европейской лексикографической традиции. Оно при всей его неопределенности не может быть просто отвергнуто, и скептицизм в отношении такого понимания слова, свойственный, например, О. Есперсену [Есперсен 1958 [1924]: 28], вряд ли оправдан.
По-видимому, за понятием слова стоит и некоторая семантическая единица, которая, естественно, может быть названа лексемой. Эта единица, как правило, обладает семантической цельностью, обозначая некоторый фрагмент действительности (реальной или воображаемой) или отношение говорящего к действительности. Именно эти единицы используются при назывании того или иного предмета или явления, то есть в номинативной функции. Морфемы в составе лексемы обычно не обладают этим свойством: их значение (если оно не чисто грамматическое) поглощается цельным значением лексемы. Не всякий пишущий человек – писатель, а столик (скажем, в кафе) может быть больше стола. Об этом еще в XIX в. писал Н. В. Крушевский, называя слово «субститутом идеи» [Крушевский 1998 [1883]: 108]. Именно это имел в виду А. И. Смирницкий, говоря об идиоматичности слова. Более протяженные, чем лексема, единицы обычно не обладают семантической цельностью, а их значение разлагается на значение составляющих лексем плюс информация о связи этих лексем; описываемые ими фрагменты действительности уже не представляются как элементарные. Именно лексемы записываются в словаре (об исключениях см. ниже). Понятие лексемы, противопоставленное словоформе, было введено А. И. Смирницким [Смирницкий 1955: 13–15], а А. А. Зализняк развил это противопоставление, выделив пять единиц разной степени абстракции: конкретный сегмент, абстрактный сегмент, конкретную словоформу, абстрактную словоформу и лексему [Зализняк 1967: 19–22].
Вопрос о границах лексем трактуется в науке по-разному и будет специально рассмотрен в разделе 1.5. Здесь отмечу лишь одно явление: при любом проведении таких границ семантическая, идиоматичная единица языка не всегда совпадает со словом в традиционном понимании. Это наиболее очевидно в случае полных фразеологизмов («фразеологических сращений» и «фразеологических единств» в терминологии В. В. Виноградова). Русское бить баклуши или японское abura o uru ‘слоняться без дела’ (букв. ‘продавать масло’) столь же идиоматичны и столь же номинативны, как и обычные лексемы. «Фразеологические сочетания», по В. В. Виноградову, также идиоматичны и номинативны, хотя соотносятся по значению со значением их составных частей, ср. приводившуюся характеристику сочетания Красная Армия у И. И. Мещанинова. Но любой фразеологизм не является словом ни в каком из рассмотренных выше смыслов. С другой стороны, служебные слова вряд ли целесообразно считать лексемами: их значение существенно другое. Если же так поступить, то вслед за ними придется считать лексемами и грамматические аффиксы: в отличие от значений компонентов сложных или производных слов их значение не поглощается в составе слова, а семантические различия между аффиксами и служебными словами, как уже говорилось, установить невозможно.
Надо отметить и то, что возможны слова в традиционном смысле, обладающие всеми признаками слов, кроме семантических. Для современного русского языка невозможно сказать, что такое баклуши, зга или кулички (даже об их этимологии спорят). Эти единицы являются синтаксемами, словоформами, фонетическими словами (вопрос об их отнесении к словам-высказываниям спорен), но не лексемами. Ничтоже сумняшеся – вроде бы два слова, первое из которых даже сохраняет ассоциативную связь со словом ничтожный, но смысл целого нельзя разложить на смысл частей (если, конечно не обратиться к старославянскому языку, но это все же иной язык). Иногда значение слова выделяется лишь остаточно: С. Е. Яхонтов писал, что в словарях записываются фактически не существующие формы именительного падежа усталь и удерж, хотя реально есть лишь сочетания без устали и без удержу [Яхонтов 2016 [1963]: 110]. См. также вышеприведенный пример до упаду у М. В. Панова.
Наряду с лексемами могут быть выделены и другие единицы, также включаемые в традиционное представление о слове. Лексема имеет единое значение (отвлекаясь от его актуализации в контексте), а множество лексем, совпадающих по форме и связанных по значению, образует другую единицу – вокабулу [Вардуль 1977: 202; Мельчук 1997: 346–347]. См. также [Крылов 1982: 131–132], где при сходных идеях предлагается иная система терминов, в том числе лексемой именуется то, что здесь названо вокабулой. Земля как название планеты и земля как почва – две лексемы и одна вокабула. Разграничение лексемы и вокабулы в отличие от прочих случаев не связано с вопросом об их границах, которые у них совпадают по определению.
1.4.6. Орфографическое слово
Наконец, нельзя не упомянуть и единицу письменных разновидностей некоторых языков – орфографическое слово, то есть последовательность между двумя пробелами. Нередко лингвисты именно эту единицу считают словом, иногда сознательно, например во многих работах по прикладной лингвистике, иногда бессознательно, как это произошло с Л. Блумфилдом в отношении слова в английском языке. В отличие от других единиц, орфографическое слово не универсально: оно неприменимо не только к бесписьменным языкам, но и к языкам, где на письме пробел не используется (древние системы письма, а среди современных китайское или японское)[18 - Впрочем, в Японии публикуются и тексты с пробелами (прежде всего, книги для маленьких детей). Там пробелами отделяются синтаксемы (бунсэцу), см. 1.7.].
Правила отделения друг от друга орфографических слов часто условны и могут не быть последовательны даже в языках вроде русского или английского [Панов 2007 [1962]: 125–126; Dixon, Aikhenvald 2003: 23–24]; они могут меняться во время орфографических реформ. К тому же система языка изменяется быстрее, чем орфография. Тем не менее в Европе правила выделения орфографических слов основаны на соответствующем варианте лингвистической традиции. Орфографические слова здесь чаще всего близки к морфологическим словам (в современном языке или в одном из более ранних состояний того же языка) и обычно совпадают с ними, если они совпадают между собой.
Иная ситуация может быть, когда орфографические нормы для языков иного строя разработаны европейскими (или американскими) специалистами или же носителями языков, ориентированными на западные или русские каноны. В таких случаях правила членения текста на орфографические слова отражают, прежде всего, представления о слове создателей орфографических норм.
Часть лингвистов, исходя из всего сказанного выше, отрицают лингвистическую значимость данного понятия [Мельчук 1997: 198– 199]. С другой стороны, слово могут выделять в качестве одной из единиц, как это делал С. Е. Яхонтов, или даже считать, что только орфографическое слово отражает реальность и что понятие слова приобрело современное значение исключительно через школу и письмо; так недавно высказался М. Хаспельмат [Haspelmath 2011: 33, 74]. Но все же вряд ли можно считать, что пробел в европейских языках установлен произвольно и не основан на представлениях носителей этих языков. К тому же любые касающиеся языка сочинения древнегреческих авторов (даже относящиеся ко времени до формирования устойчивой лингвистической традиции, скажем, у Платона или Аристотеля) уже отражают четкое представление о слове, хотя пробелом систематически еще не пользовались (поэтому высказывание М. Хаспельмата исторически неверно). Так что пробел – не причина, а следствие выделения слов в европейских языках. Не следует, однако, забывать о возможном обратном влиянии орфографии через представления носителей языка на языковую систему.
Итак, за традиционным понятием слова скрывается ряд не одинаковых по свойствам лингвистических единиц. Их здесь выделено более десятка, но их число может быть увеличено. Естественно, такое дробление возможно лишь при несловоцентрических подходах, а традиционное понятие слова, расщепляясь на разные единицы, теряет как цельность, так и статус исходной единицы исследования. Необходимо более детально выяснить соотношение словоцентрического и несловоцентрических подходов, плюсы и минусы каждого из них.
1.5. Соотношение словоцентрического и несловоцентрических подходов
Один из многих «вечных» вопросов лингвистики – вопрос о распределении лексического и грамматического в слове, связанный с вопросом о членимости слова. В рамках словоцентризма были предложены два подхода, в несловоцентрических концепциях возможен лишь второй из них. Известный историк лингвистики Р. Х. Робинс, используя идеи Ч. Ф. Хоккета, назвал их моделями «слово – парадигма» и «морфема – слово» [Hockett 1954; Робинс 2010 [1967]: 48]; см. также «словесно-парадигматическую» и «элементно-комбинаторную» модели у Э. Даля [Даль 2009 [2004]: 314–315]. О различии моделей и их использовании см. также [Плунгян 2000: 75–77].
В европейской традиции модель «слово – парадигма» исторически первична; эта модель была свойственна античной и средневековой науке. Для Дионисия и других античных грамматистов «слово… целостно и в морфологическом отношении. Древняя грамматика не вырабатывает понятия о морфологических формантах слова, корнях или суффиксах. И флексия и словообразование истолковываются как изменение (“падение”, “отклонение”) законченных слов, которые в некоем своем нормальном виде (номинатив для имен, первое лицо единственного числа настоящего времени для глагола) предшествуют всем прочим формам» [Тронский 1936: 24]. Грамматическое значение (как и лексическое) приписывается слову в целом. «Словесно-парадигматические представления состоят из лексемы и неупорядоченного множества морфологических свойств» [Даль 2009 [2004]: 331]. Следы старого подхода до сих пор сохранились в привычной для нас терминологии: восходящие к античности и скалькированные в русском языке термины склонение, спряжение, словоизменение отражают представление о том, что не окончание присоединяется к основе, а изменяется все слово целиком.
Модель «морфема – слово» исходит из членения слова на основу и аффиксы, приписывая грамматическое значение лишь последним; она появилась в Европе уже в Новое время. Появление понятий корня и аффикса в европейской традиции, как уже упоминалось, обычно связывается с первой в Европе грамматикой древнееврейского языка И. Рейхлина, то есть с влиянием иной традиции. Эта модель возникла в рамках словоцентризма, но в отличие от первой совместима и с несловоцентрическими подходами. Она стала господствующей в структурной лингвистике, полностью или частично отказавшейся от словоцентризма. Однако в русистике, хотя модель «слово – парадигма» уже не существует в чистом виде и выделение основы и аффиксов общепринято, сохраняется компромиссная точка зрения, при которой слово членится на морфемы, но одновременно считается, что лексическое и грамматическое значение свойственны не отдельным морфемам, а слову в целом. См., например, [Грамматика 1952: 18, 113]. Русисты часто говорят о «неразрывном единстве» лексического и грамматического значения слова.
Модель «слово – парадигма» возникла и развивалась на материале флективных (фузионных) синтетических языков: древнегреческого и латинского, она отчасти сохранилась и для русского языка. В этих языках, по выражению П. Х. Мэтьюса, нет проблемы слова, но есть проблема морфемы [Matthews 2003: 285], поскольку в связи с морфонологическими явлениями на стыках морфем их границы часто не очевидны[19 - Именно эта неочевидность была, в конечном счете, главным собственно лингвистическим аргументом в пользу «особого совершенства» флективных языков, в которое верили основатели типологии начала XIX в.]; см. об этом также [Dixon, Aikhenvald 2003: 17]. Способствует такому взгляду и явление внутренней флексии, когда действительно трудно говорить о раздельном выражении лексического и грамматического значения. Образование нерегулярных глаголов в германских языках или случаи супплетивизма лучше описываются в рамках этой модели [Даль 2009 [2004]: 316]. Высказывалась и такая точка зрения: «Латинские (и греческие) слова не поддаются сегментации на морфы» [Лайонз 1978 [1972]: 204].
Однако подход, принятый в русистике, логически уязвим: получается, что значение оказывается свойственно одновременно целому и части. Выделение морфем как сегментных единиц во многих случаях очевидно и в фузионных языках; недаром модель «морфема – слово» хорошо прижилась в европейской лингвистике. Но главный недостаток модели «слово – парадигма» в ее неуниверсальности: она предполагает первичное выделение слов, которое для многих языков оказывается затруднительным. Кроме того, в большом количестве языков парадигма очень велика, в арчинском языке (Дагестан) от одного глагольного корня может быть потенциально образовано более полутора миллионов форм [Кибрик и др. 1977. Т. 3: 36]. Зато модель «морфема – слово» хорошо работает именно для агглютинативных языков [Даль 2009 [2004]: 316]. К фузионным языкам она также применима, хотя, как отмечено выше, в отдельных случаях приводит к трудностям. Модель «морфема – слово», в отличие от другой модели, не делает принципиальных различий между морфологией и синтаксисом: там и там описывается комбинирование элементов [Там же: 315–316].
С этим вопросом связан еще один, обычно не обсуждаемый в русистике, но все-таки поднимавшийся рядом лингвистов. «Чтобы выделить в словоформах лексическое, т. е. основное для слова как единицы словарного состава языка значение, иначе говоря – чтобы в словоформах увидеть именно конкретные слова как таковые, а не отдельные их грамматические формы, необходимо, следовательно, отвлечься от грамматического момента в каждой словоформе, представляющей собой одно и то же слово» [Смирницкий 1955: 15]. Эта точка зрения сохраняется и у А. А. Зализняка [Зализняк 1967: 19–20]. Такой подход естественно согласуется со словоцентризмом, но часто встречается и у лингвистов, с ним не связанных. В виде примера можно привести уже упоминавшуюся концепцию И. Ф. Вардуля или выделение «парадигматических классов» у Г. Глисона [Глисон 1959 [1955]: 143–144].
Встречается, однако, и иная точка зрения. Выше уже упоминалось разграничение «семантемы» и «синтаксической молекулы» у Ш. Балли. Эти единицы, помимо сущностных различий, не совпадали и по границам. Ш. Балли писал: «То , что называют словом, означает или чисто лексический знак, лишенный какого бы то ни было грамматического элемента… или неразложимый комплекс знаков, способный функционировать в речи, так как он бывает снабжен актуализаторами и грамматическими связями… Только в силу чистой условности слово в словаре имеет форму именительного падежа, так как окончание этой формы является грамматическим знаком, который лишает lupus (латинское слово со значением ‘волк’. – В. А.) его качества чисто лексического знака… В силу такой же условности глаголы во французских словарях ставятся в инфинитиве, что создает иллюзию, будто последний выражает глагольное понятие в его чистейшей форме. В действительности же в marcher ‘идти’ понятие “ходьбы” содержится в основе: суффикс -er является знаком, показывающим, что глагол функционирует как существительное» [Балли 1955 [1932]: 316]. То есть для латинского языка, где, как и для русского языка, норма – наличие в слове грамматического аффикса (вроде -us в упомянутом lupus), семантема равна основе; то же и для французского, если в слове есть окончание вроде -er в marcher. Но норма для французского языка – семантема, способная употребляться самостоятельно и равная молекуле, вроде loup ‘волк’. См. также вышеприведенное высказывание А. Мейе об «основе, выражающей понятие». Рассмотрение в качестве лексической единицы основы, а не словоформы встречается изредка и в отечественных работах, посвященных не русскому, а какому-нибудь другому языку: арабскому [Габучян, Ковалев 1968: 47–49], немецкому [Шубин 1962: 23–24].
Сравнивая две точки зрения в общем виде и отвлекаясь пока от их применимости к конкретным языкам, можно видеть, что вторая из них проще. Рассмотрение в качестве лексической единицы некоторой последовательности с обязательными «довесками» в виде окончаний, от которых необходимо затем отвлечься, при прочих равных условиях сложнее, чем взять с самого начала основу без «довесков». Конечно, эти прочие равные условия в языках вроде русского или латинского не достигаются: в них основу выделить обычно сложнее, чем словоформу. Однако в языках иного строя может быть и наоборот. Наконец, при втором подходе лексема выделяется на основе ее собственных свойств, а не как нечто производное от не связанной с семантикой единицы – словоформы. Так что вполне логичным может считаться выделение в качестве базовой единицы не окно и не совокупность словоформ окно, окна, окну и т. д., а их общую часть – окн-. Но этому мешает, прежде всего, наша интуиция, к которой в неявном виде апеллировал и А. И. Смирницкий (см. раздел 1.11).
Еще одно различие словоцентрического и несловоцентрических подходов видно в области словообразования. При словоцентрическом подходе словообразование принято рассматривать как отношение между словами: производящим и производным, при словосложении производящих слов более одного. Ср. типичное высказывание: «Разумеется, словообразование – это всегда образование одного слова от другого» [Лопатин 1977: 9]; впрочем, там же вводится не вполне согласующееся с этим утверждением понятие мотивирующей базы, которая может быть равна как целому слову, так и основе [Там же: 9–10]. Ср. высказывание конца позапрошлого века: «Производные слова – термин, употребляемый в школьной грамматике, но не имеющий определенного научного значения» [Булич 1898: 377]. При несловоцентрических подходах среди составляющих словоформу морфем выделятся среди других и деривационные. Деривация трактуется как присоединение такого аффикса к корню или основе, а словосложение – как соединение корней или основ.
Традиционная модель словообразования связана с большими трудностями. Опять-таки грамматические аффиксы (в данном случае аффиксы производящего слова) лишь добавляют лишнюю информацию, от которой надо потом отвлекаться. Кроме того, даже в русском языке не редкость – когда производящее слово вообще отсутствует или производящими могут с равным правом считаться несколько слов, см. анализ таких слов в [Лопатин 1977: 92–97]. В русском языке связанные корни не так часты, но для языков с развитым корнесложением их существование представляет собой серьезную проблему. Например, в китайском по происхождению слое лексики японского языка сложные слова, состоящие из самостоятельно не употребляющихся корней, – скорее норма, чем исключение [Пашковский 1980: 92, 94]. Здесь неприменимо понятие производящего, а следовательно, и производного слова. А рассмотрение сложного слова как состоящего из слов, восходящее еще к античности, противоречит обычным принципам науки: не принято же считать, что молекула состоит из молекул, а атом из атомов.
Правда, есть случаи, когда традиционные подходы работают лучше. Это бывает, если слово произведено не от основы, а от целой словоформы, см. примеры вроде большевик и недавнее растишка. Но это все же периферия словообразования, а в обычных случаях проще считать, что слово образовано от основ.
Таким образом, сравнение подходов пока в основном свидетельствует о преимуществах подходов, не связанных со словоцентризмом. Словоцентрический подход смешивает не совпадающие между собой единицы языка, пользуется нестрогими и с трудом допускающими уточнение и формализацию понятиями[20 - Показательно такое высказывание о лексеме в традиционном смысле: “Наивное” понятие внутренне эклектично: думается, что такой пестрый букет критериев не нужен ни на одном уровне и ни для одного межуровневого компонента» [Крылов 1982: 134].], постоянно приводит к противоречивым описаниям. Несловоцентрические подходы позволяют этого избежать.
Но, пожалуй, самый серьезный аргумент в пользу несловоцентрических подходов – их универсальность. Традиционный словоцентрический подход казался естественным, пока основным объектом лингвистического описания были флективные языки Европы. «Лингвисты, как бы они ни расходились в употреблении таких грамматических терминов, как “слово”, в любом случае согласны в отношении образцовых примеров» [Базелл 1972: 29]. Как уже говорилось, словоцентрический подход основан на очевидности понятия слова, которое носители флективных языков воспринимают как непосредственную данность (что не исключает существования отдельных сложных случаев). Но для языков иного строя исходить из такой очевидности невозможно. Применение словоцентрического подхода в его привычном варианте к каждому языку, известное по многовековой традиции миссионерских грамматик и не исчезнувшее до сих пор, показало свою неадекватность. Выше уже говорилось о разбросе точек зрения для японского языка, где может влиять даже родной язык исследователя (например, русский или английский), об этом разбросе я буду еще говорить в 1.8. Если при несловоцентрическом описании различия в понимании слова могут сводиться лишь к терминологической несогласованности («словом» могут быть названы разные единицы), то разные представления о слове при словоцентрическом подходе делают описания несопоставимыми.
Несловоцентрические концепции, особенно исходящие из первичности морфемы по отношению к слову, несмотря на свои собственные трудности, оказываются более универсальными, поскольку «морфема, как более простая единица, интуитивно яснее, чем слово: в частности, тут не может быть таких переходных этапов, которые имеют место при оценке служебных морфем в аналитических конструкциях (иногда неясно, следует ли считать эти формы словом или морфемой)» [Успенский 1965: 53]. Отмечу и тот факт, что из различных единиц, перечисленных в предыдущем разделе, самая близкая к традиционному представлению о слове – морфологическое слово – выделяется в общем виде с наибольшим трудом (пусть во флективных языках дело обстоит иначе). Отсюда ее отрицание как универсальной единицы, да и ее содержательная ценность менее всего очевидна.
Если стоять на почве строго лингвистического подхода в смысле изучения того, что Ф. де Соссюр называл языком, то у словоцентрического подхода можно найти лишь немногие преимущества, например однотипное рассмотрение флексии и внутренней флексии (сходство терминов показательно), трактовка слов типа большевик. К этому, может быть, следует добавить и что-то еще, но вряд ли таких случаев особенно много. Однако в последующих разделах главы будет показано, что словоцентризм имеет основания, однако для того, чтобы их найти, нам придется выйти за пределы строго лингвистического подхода.
1.6. Следует ли обходиться без слова?
Казалось бы, словоцентрический подход устарел и может быть оставлен. Можно идти еще дальше и исключить из лингвистики понятие слова вообще. Такая точка зрения существует.
Движение в этом направлении, как упоминалось выше, началось в ряде направлений структурализма, особенно в дескриптивизме, см. об этом [Основные 1964: 197–198]. Здесь морфема стала считаться более важным понятием, поскольку ее легко определить (хотя в конкретном описании не всегда легко выделить), тогда как статус слова неясен, а удовлетворительных его определений не было. См. оценку Л. Блумфилда у М. М. Гухман: у него «слово как определенная языковая единица практически исключается из анализа» [Гухман 1968: 14]. Если у Л. Блумфилда понятие слова еще сохраняется, то в середине ХХ в. такой подход стал доводиться до логического завершения. Британский исследователь пришел к выводу о том, что слово вообще не является единицей языка, это лишь условный или произвольный (conventional or arbitrary) сегмент [Potter 1967: 78]. Обходится без понятия слова и концепция А. Мартине, где под морфологией понимается вариация и комбинирование монем (морфем) [Мартине 1963 [1960]: 376–379]. Как отмечает В. Г. Гак, отказ от слова часто встречался во французской лингвистике ХХ в. [Гак 1986: 43]. См. и точку зрения М. Бейкера: слово – особенность языков с богатой морфологией. Бросается в глаза, что полный или частичный отказ от слова распространен в англоязычной и франкоязычной науке; В. Г. Гак связывает его с затруднением выделения слова во французском языке [Там же]. А отечественная лингвистика не отказывается от этого понятия. Характерно, что В. Г. Гак отказ считать слово основной единицей признает недостатком концепции А. Мартине [Там же: 11]. Впрочем, к такой точке зрения очень близко подошел С. Е. Яхонтов, отказавшись от «слова вообще»; и он, кстати, был исследователем нефлективного китайского языка. Еще один шаг в направлении отказа от слова делается в работах вроде вышеупомянутой статьи [Bickel, Z??iga 2017].
Генеративная лингвистика также чаще не уделяет внимания слову и другим морфологическим единицам, подчиняя морфологию синтаксису и включая слова в более общее понятие phrase[21 - Этот термин, занимающий большое место в англоязычной лингвистике разных направлений, не имеет устойчивого русского эквивалента (фраза в русском]. На задний план может отходить и морфема, но не настолько, как слово: см. мнение М. Бейкера об универсальности понятия морфемы и ограниченной применимости понятия слова. Отказ от выделения слова, однако, может встречаться и у лингвистов, не работающих в рамках генеративизма.
Показательна недавно появившаяся статья известного типолога [Haspelmath 2011]. Ее автор рассматривает различные существующие в науке попытки определить слово или хотя бы выяснить структурные свойства этой единицы и убедительно показывает, что они дают противоречивые результаты и всегда, так или иначе, расходятся с традицией. Также отмечено, что все такие подходы не могут объяснить центральную роль слова в европейской лингвистике, с этим также следует согласиться. М. Хаспельмат обращает внимание и на ослабление интереса к проблемам слова в лингвистике последних десятилетий. Из всего этого делается вывод о том, что в теоретической лингвистике и в типологии необходимо отказаться от понятия слова, изменить привычную терминологию и перестать разграничивать морфологию и синтаксис (достаточно единого морфосинтаксического уровня). Единственная реальность – орфографическое слово, но если такая единица существует в фонетическом письме, это еще не значит, что она существует и в языке. Достаточно использования таких понятий, как морф, форматив, свободная и связанная конструкция и др. Слово же, по выражению М. Хаспельмата, один из «артефактов традиции».
Однако при таком, казалось бы, простом решении возникает ряд вопросов. Почему понятие слова существует в Европе (и, как мы увидим дальше, не только в ней) более двух тысячелетий и большую часть этого времени господствовал словоцентризм? Почему он и сейчас полностью сохраняет силу в славистике и русистике, а также в обще-лингвистических концепциях, базирующихся на русском материале[22 - См., например, достаточно представительный для конца советского периода сборник [Слово 1984]. С тех пор ситуация особо не изменилась. Очень показателен здесь подход И. А. Мельчука.]? Почему и многие западные ученые продолжают считать слово универсалией языка (см., например, [Jezek, Ramat 2009: 392])? Наконец, языке имеет совсем другое значение). Он покрывает специфически русский термин словосочетание, но в отличие от него может относиться и к одному слову, рассмотренному в синтаксическом аспекте. Я. Г. Тестелец предлагает для него эквивалент группа [Тестелец 2001: 111]. Я вернусь к рассмотрению этого понятия в 3.2. почему многие понятия словоцентризма кажутся совершенно очевидными, а его недостатки как бы не замечаются? Все это требует рассмотрения.
Однако прежде чем перейти к этому, следует рассмотреть еще одну проблему, также важную для решения вопроса о слове: как этот вопрос отражается в других лингвистических традициях, возникших независимо от европейской науки и основанных на языках, по строю отличных от греческого и латинского. Этому будут посвящены разделы 1.7–1.9. В первых двух из них будет затрагиваться японская традиция, о которой я уже неоднократно писал [Алпатов 1978; 1979: 25–31; Алпатов и др. 1981; Алпатов 1983; 2011], в разделе 1.9 будет дан краткий обзор иных традиций. О сопоставлении разных традиций с точки зрения вопроса о слове см. [Алпатов 2005: 33–36].
1.7. Японская лингвистическая традиция и ее представления о слове
Эта традиция окончательно сформировалась в период «закрытой Японии» (XVII–XIX вв.), когда японская наука обратилась к изучению исконных элементов собственной культуры, в том числе языка, хотя определенные представления о языке выражались в письменных памятниках и раньше. После начала европеизации Японии в середине XIX в. там переняли и понятия западной науки, в результате произошел синтез традиций и многие прежние представления сохранились, включая и представления о слове.
Для понятия, которое можно было бы сопоставить со словом, вплоть до периода европеизации не было обобщающего термина, вместо него использовались разные термины соответственно для знаменательных и служебных единиц: kotoba (что также значит и «язык») и tenioha. С конца XIX в., после работ Оцуки Фумихико (1847–1928)[23 - При обозначении японских авторов принято сначала давать фамилию, потом имя.], распространился и обобщающий термин go (как его синоним может употребляться и tango, буквально простое go).
Границы go, имплицитно проводившиеся и до формирования традиции, например в ранних словарях, были однозначно проведены учеными XVIII – первой половины XIX в. и с тех пор в каноническом варианте не менялись. Споры шли лишь по отдельным вопросам вроде трактовки показателей пассива и каузатива или сочетаний прилагательного со связкой. Эта единица, как и европейское слово, рассматривается одновременно как единица грамматики и единица лексики. Именно go включаются в качестве словарных единиц в словари[24 - Подача лексики в японских словарях несколько отличается от привычной для нас, например туда могут отдельными словарными статьями включать фразеологизмы [Алпатов 2008б: 188–190]. Но норма – go.], а их структура и сочетаемость описываются в грамматиках. Соответствие go слову отмечали многие японские лингвисты разных эпох [Ootsuki 1897: 36; Tokieda 1954: 64; Watanabe 1958: 96], в том числе авторы сопоставительных грамматик [Soranishi 1971: 10].
Однако за пределами Японии встречается и другая точка зрения на соотношение go и слова. В русском издании японской грамматики [Киэда 1958–1959 [1937]] термин go переводится как слово, однако автор предисловия Н. И. Фельдман пишет: «Традиционного представления о слове в японской грамматической науке нет» [Фельдман 1958: 17]. Впрочем, она же уточняла: неясность границ слова в японском языке – «проблема грамматики, а не лексикологии, поскольку неясность касается соотношения со служебными элементами речи, а словарная форма слова, за некоторыми исключениями, ни у кого не вызывает сомнений» [Фельдман 1960: 28–29]. А. А. Холодович писал: «Японское традиционное языкознание никогда не знало двухтактного разбиения предложения: сперва на значимые слова, а затем на значимые морфемы. Оно членило предложение одним-единственным способом, сегментируя его на значимые части одного-единственного уровня. С точки зрения современного европейского языкознания эти значимые части предложения… являются морфемами» [Холодович 1979: 13]. Последнее неверно уже хотя бы потому, что сложные слова в японской традиции (по крайней мере, в ХХ в.) в свою очередь делились на морфемы.
Чтобы разобраться в том, насколько это точно, рассмотрим подход к выделению слова у японских ученых. Особо значимы идеи одного из виднейших японских лингвистов ХХ в. Хасимото Синкити (1882–1945). Его концепции приобрели большую популярность в Японии (в частности, известная у нас благодаря русскому переводу грамматика М. Киэда составлена под значительным его влиянием); в то же время Хасимото, в отличие от многих других ученых, эксплицитно обсуждал проблему определения go и критерии его выделения. До него эта единица или не определялась, или определялась нестрого: скажем, Оцуки определял go так: «Состоит из одного или нескольких звуков» [Ootsuki 1897: 36]. То есть поначалу и в Японии стихийно господствовал первичный словоцентризм, но Хасимото уже ориентировался на европейские работы, где давались определения слова.
Вопреки мнению А. А. Холодовича, членение у Хасимото вовсе не однотактное, а даже трехтактное. Сначала предложение делится на минимальные синтаксические единицы – bunsetsu (их не было в традиции до европеизации, но их уже вводил Хасимото). Эти единицы определяются одновременно по синтаксическим (возможность быть потенциальным минимумом предложения) и акцентуационным (паузы) признакам [Хасимото 1983 [1932]: 53]. Далее bunsetsu членятся на go. Эти единицы делятся на самостоятельные, способные сами образовать bunsetsu, и несамостоятельные, лишенные такой способности; это разделение соответствует делению на знаменательные и служебные единицы [Там же: 53–54]. Далее go членятся на составные части: корни (gokon) и аффиксы (setsuji) [Там же: 54], именно их можно сопоставить с морфемами.
Таким образом, европейскому слову у Хасимото соответствуют две разные единицы: многие свойства слова и многие европейские и американские определения его, включая определения Л. Блумфилда и Е. Д. Поливанова, относятся к bunsetsu (дословно ‘раздел (сустав) предложения’). Это понятие впервые сформулировал именно Хасимото (к моменту начала европеизации в японской науке не успел сформироваться синтаксис, который строился в конце XIX – начале ХХ в. уже с учетом европейской и американской науки и окончательно был разработан Хасимото). Но оно прочно вошло в японскую науку; как уже упоминалось, именно эти единицы отделяют пробелом в тех редких случаях, когда он используется. Однако единицей словаря и у Хасимото остается go, являющееся, как и европейское слово, также грамматической (но не синтаксической) единицей.
Но несовпадение с европейским подходом этим не исчерпывается, что видно, когда Хасимото начинает выяснять, чем аффиксы отличаются от несамостоятельных go. Он пишет: «Те и другие присоединяются к способным быть самостоятельными go и образуют единицы, которые могут функционировать самостоятельно: таким образом, они имеют совершенно одинаковые свойства, однако почему же мы считаем, что единицы, образованные в первом случае, являются bunsetsu, а единицы, образованные во втором случае, – go?» [Хасимото 1983 [1934]: 72].
Рассматриваются разные признаки аффиксов и несамостоятельных go. Те и другие могут, например, присоединяться к целым go. Их различие, по Хасимото, в другом: «Хотя аффиксы присоединяются не к отдельным go, а к достаточно большому его количеству, их присоединение ограничено узусом, они не могут присоединяться к любому go. Однако go второго типа [несамостоятельные. – В. А.]… хотя не присоединяются ко всем go, но, как правило, присоединяются ко всем go определенного класса (например, ко всем именам или всем предикативам[25 - Предикативы в японской лингвистике – общее название для глаголов и предикативных прилагательных, см. 2.10.]). Это присоединение свободно и регулярно… Если так, то среди лишенных самостоятельности единиц, присоединяемых к go и придающих им добавочное значение, следует выделять свободно и регулярно присоединяющиеся ко многим go единицы (go второго типа) и присоединяемые только к ограниченному числу определенных узусом go аффиксы» [Там же: 73–74].
Данный критерий очень напоминает известный в русистике критерий обязательности, предложенный А. А. Зализняком. Хотя он сформулирован для элементов значения, но определяет и статус морфем, имеющих соответствующее значение: если морфема присутствует в любой словоформе некоторого класса (например, части речи), то она обязательна для данного класса и этот признак необходим (но не всегда достаточен) для ее признания грамматической [Зализняк 1967: 25]. На морфемном уровне этот признак отграничивает грамматические (словоизменительные) аффиксы от лишенных обязательности деривационных (словообразовательных) морфем. И определяется он у А. А. Зализняка для словоформ, границы которых предполагаются уже установленными, а к служебным словам он не применяется вообще; это соответствует традициям русистики. Однако у Хасимото критерий используется совсем иначе: для определения границ go, то есть слова. Необязательные для того или иного класса служебные элементы в обоих случаях трактуются как морфемы внутри слова: словообразовательные аффиксы в русистике, аффиксы вообще у Хасимото, а трактовка регулярных грамматических элементов резко различна. Если бы критерии Хасимото применялись к русскому языку, то, например, последовательности морфем коровка и путевка трактовались бы как сочетания знаменательных слов коровк и путевк со служебным словом а. Разумеется, для русского языка никто никогда такого не предлагал, но для японского языка Хасимото не столько предложил что-то новое, сколько эксплицировал традиционные представления (как и А. А. Зализняк эксплицировал то, что уже давно принято в русистике). И его идеи стали общепринятыми в Японии.
Выдвигая данный критерий, Хасимото отказывается использовать другой, согласно которому служебные go присоединяются к знаменательному go, а аффиксы к корню. Однако как раз последний признак в русистике разделяет служебные слова и аффиксы – части слова[26 - Исключение составляют так называемые постфиксы вроде -ся: считается, что они присоединяются ко всему слову. Но постфиксы отличаются от обычных аффиксов: в принятых выше терминах это форманты.].
Теперь сравним японские go и слова, выделяемые в отечественной и западной японистике. При довольно большом разбросе мнений вне Японии почти никто не проводит границы слов в точности там, где в Японии проводят границы go. Редким исключением была грамматика [Пашковский 1941], автор которой просто скопировал японское членение, переведя go как слово (позже автор грамматики пересмотрел точку зрения). Если для имен мнения бывали разными (см. 1.8), то глаголы и близкие к ним по свойствам предикативные прилагательные и в отечественной, и в западной японистике рассматриваются как слова со значительным словоизменением. За пределами Японии большинство приглагольных и приадъективных служебных go (показатели залога, отрицания, этикета к собеседнику, прошедшего времени и др.) принято считать аффиксами (исключение – связки). Те же морфемы, которые Хасимото относил к аффиксам, считаются аффиксами и здесь, но относятся к сфере словообразования.
В целом можно считать, что понятие несамостоятельного go покрывает понятия словоизменительного аффикса и служебного слова, а понятие самостоятельного go ближе всего, в привычных для нас терминах, к принятому в русистике понятию основы слова (в его состав могут входить корни и словообразовательные показатели). Считать основу единицей лексики, а аффикс – единицей грамматики – решение, не свойственное ни исконной европейской, ни русской традиции, но довольно близкое к тому, как Ш. Балли выделял семантемы. Аналога словоформы в вышеуказанных значениях в японской традиции нет, в этом (и только в этом) смысле справедливо высказывание Н. И. Фельдман об отсутствии в этой традиции понятия слова.
Все сказанное, однако, следует уточнить в связи с еще одним свойством японской традиции, о котором до сих пор не упоминалось. Не все из того, что японистика вне Японии считает аффиксами, оказывается в японской традиции в числе отдельных go. Иначе трактуются (для современного языка) три показателя: настояще-будущего времени индикатива, грубого императива и одного из деепричастий (а также омонимы последнего: показатель отглагольного имени и еще один показатель императива). Кроме того, морфемное членение японских предикативов часто не соответствует членению, которое получается после применения обычных правил морфемного анализа.
Все рассмотренные выше единицы не являются непосредственно семантическими. В то же время традиционно слово понимается, прежде всего, как номинативная единица, обладающая значением и отличающаяся в этом плане от других значимых единиц языка: такое его понимание лежит в основе многовековой европейской лексикографической традиции. Оно при всей его неопределенности не может быть просто отвергнуто, и скептицизм в отношении такого понимания слова, свойственный, например, О. Есперсену [Есперсен 1958 [1924]: 28], вряд ли оправдан.
По-видимому, за понятием слова стоит и некоторая семантическая единица, которая, естественно, может быть названа лексемой. Эта единица, как правило, обладает семантической цельностью, обозначая некоторый фрагмент действительности (реальной или воображаемой) или отношение говорящего к действительности. Именно эти единицы используются при назывании того или иного предмета или явления, то есть в номинативной функции. Морфемы в составе лексемы обычно не обладают этим свойством: их значение (если оно не чисто грамматическое) поглощается цельным значением лексемы. Не всякий пишущий человек – писатель, а столик (скажем, в кафе) может быть больше стола. Об этом еще в XIX в. писал Н. В. Крушевский, называя слово «субститутом идеи» [Крушевский 1998 [1883]: 108]. Именно это имел в виду А. И. Смирницкий, говоря об идиоматичности слова. Более протяженные, чем лексема, единицы обычно не обладают семантической цельностью, а их значение разлагается на значение составляющих лексем плюс информация о связи этих лексем; описываемые ими фрагменты действительности уже не представляются как элементарные. Именно лексемы записываются в словаре (об исключениях см. ниже). Понятие лексемы, противопоставленное словоформе, было введено А. И. Смирницким [Смирницкий 1955: 13–15], а А. А. Зализняк развил это противопоставление, выделив пять единиц разной степени абстракции: конкретный сегмент, абстрактный сегмент, конкретную словоформу, абстрактную словоформу и лексему [Зализняк 1967: 19–22].
Вопрос о границах лексем трактуется в науке по-разному и будет специально рассмотрен в разделе 1.5. Здесь отмечу лишь одно явление: при любом проведении таких границ семантическая, идиоматичная единица языка не всегда совпадает со словом в традиционном понимании. Это наиболее очевидно в случае полных фразеологизмов («фразеологических сращений» и «фразеологических единств» в терминологии В. В. Виноградова). Русское бить баклуши или японское abura o uru ‘слоняться без дела’ (букв. ‘продавать масло’) столь же идиоматичны и столь же номинативны, как и обычные лексемы. «Фразеологические сочетания», по В. В. Виноградову, также идиоматичны и номинативны, хотя соотносятся по значению со значением их составных частей, ср. приводившуюся характеристику сочетания Красная Армия у И. И. Мещанинова. Но любой фразеологизм не является словом ни в каком из рассмотренных выше смыслов. С другой стороны, служебные слова вряд ли целесообразно считать лексемами: их значение существенно другое. Если же так поступить, то вслед за ними придется считать лексемами и грамматические аффиксы: в отличие от значений компонентов сложных или производных слов их значение не поглощается в составе слова, а семантические различия между аффиксами и служебными словами, как уже говорилось, установить невозможно.
Надо отметить и то, что возможны слова в традиционном смысле, обладающие всеми признаками слов, кроме семантических. Для современного русского языка невозможно сказать, что такое баклуши, зга или кулички (даже об их этимологии спорят). Эти единицы являются синтаксемами, словоформами, фонетическими словами (вопрос об их отнесении к словам-высказываниям спорен), но не лексемами. Ничтоже сумняшеся – вроде бы два слова, первое из которых даже сохраняет ассоциативную связь со словом ничтожный, но смысл целого нельзя разложить на смысл частей (если, конечно не обратиться к старославянскому языку, но это все же иной язык). Иногда значение слова выделяется лишь остаточно: С. Е. Яхонтов писал, что в словарях записываются фактически не существующие формы именительного падежа усталь и удерж, хотя реально есть лишь сочетания без устали и без удержу [Яхонтов 2016 [1963]: 110]. См. также вышеприведенный пример до упаду у М. В. Панова.
Наряду с лексемами могут быть выделены и другие единицы, также включаемые в традиционное представление о слове. Лексема имеет единое значение (отвлекаясь от его актуализации в контексте), а множество лексем, совпадающих по форме и связанных по значению, образует другую единицу – вокабулу [Вардуль 1977: 202; Мельчук 1997: 346–347]. См. также [Крылов 1982: 131–132], где при сходных идеях предлагается иная система терминов, в том числе лексемой именуется то, что здесь названо вокабулой. Земля как название планеты и земля как почва – две лексемы и одна вокабула. Разграничение лексемы и вокабулы в отличие от прочих случаев не связано с вопросом об их границах, которые у них совпадают по определению.
1.4.6. Орфографическое слово
Наконец, нельзя не упомянуть и единицу письменных разновидностей некоторых языков – орфографическое слово, то есть последовательность между двумя пробелами. Нередко лингвисты именно эту единицу считают словом, иногда сознательно, например во многих работах по прикладной лингвистике, иногда бессознательно, как это произошло с Л. Блумфилдом в отношении слова в английском языке. В отличие от других единиц, орфографическое слово не универсально: оно неприменимо не только к бесписьменным языкам, но и к языкам, где на письме пробел не используется (древние системы письма, а среди современных китайское или японское)[18 - Впрочем, в Японии публикуются и тексты с пробелами (прежде всего, книги для маленьких детей). Там пробелами отделяются синтаксемы (бунсэцу), см. 1.7.].
Правила отделения друг от друга орфографических слов часто условны и могут не быть последовательны даже в языках вроде русского или английского [Панов 2007 [1962]: 125–126; Dixon, Aikhenvald 2003: 23–24]; они могут меняться во время орфографических реформ. К тому же система языка изменяется быстрее, чем орфография. Тем не менее в Европе правила выделения орфографических слов основаны на соответствующем варианте лингвистической традиции. Орфографические слова здесь чаще всего близки к морфологическим словам (в современном языке или в одном из более ранних состояний того же языка) и обычно совпадают с ними, если они совпадают между собой.
Иная ситуация может быть, когда орфографические нормы для языков иного строя разработаны европейскими (или американскими) специалистами или же носителями языков, ориентированными на западные или русские каноны. В таких случаях правила членения текста на орфографические слова отражают, прежде всего, представления о слове создателей орфографических норм.
Часть лингвистов, исходя из всего сказанного выше, отрицают лингвистическую значимость данного понятия [Мельчук 1997: 198– 199]. С другой стороны, слово могут выделять в качестве одной из единиц, как это делал С. Е. Яхонтов, или даже считать, что только орфографическое слово отражает реальность и что понятие слова приобрело современное значение исключительно через школу и письмо; так недавно высказался М. Хаспельмат [Haspelmath 2011: 33, 74]. Но все же вряд ли можно считать, что пробел в европейских языках установлен произвольно и не основан на представлениях носителей этих языков. К тому же любые касающиеся языка сочинения древнегреческих авторов (даже относящиеся ко времени до формирования устойчивой лингвистической традиции, скажем, у Платона или Аристотеля) уже отражают четкое представление о слове, хотя пробелом систематически еще не пользовались (поэтому высказывание М. Хаспельмата исторически неверно). Так что пробел – не причина, а следствие выделения слов в европейских языках. Не следует, однако, забывать о возможном обратном влиянии орфографии через представления носителей языка на языковую систему.
Итак, за традиционным понятием слова скрывается ряд не одинаковых по свойствам лингвистических единиц. Их здесь выделено более десятка, но их число может быть увеличено. Естественно, такое дробление возможно лишь при несловоцентрических подходах, а традиционное понятие слова, расщепляясь на разные единицы, теряет как цельность, так и статус исходной единицы исследования. Необходимо более детально выяснить соотношение словоцентрического и несловоцентрических подходов, плюсы и минусы каждого из них.
1.5. Соотношение словоцентрического и несловоцентрических подходов
Один из многих «вечных» вопросов лингвистики – вопрос о распределении лексического и грамматического в слове, связанный с вопросом о членимости слова. В рамках словоцентризма были предложены два подхода, в несловоцентрических концепциях возможен лишь второй из них. Известный историк лингвистики Р. Х. Робинс, используя идеи Ч. Ф. Хоккета, назвал их моделями «слово – парадигма» и «морфема – слово» [Hockett 1954; Робинс 2010 [1967]: 48]; см. также «словесно-парадигматическую» и «элементно-комбинаторную» модели у Э. Даля [Даль 2009 [2004]: 314–315]. О различии моделей и их использовании см. также [Плунгян 2000: 75–77].
В европейской традиции модель «слово – парадигма» исторически первична; эта модель была свойственна античной и средневековой науке. Для Дионисия и других античных грамматистов «слово… целостно и в морфологическом отношении. Древняя грамматика не вырабатывает понятия о морфологических формантах слова, корнях или суффиксах. И флексия и словообразование истолковываются как изменение (“падение”, “отклонение”) законченных слов, которые в некоем своем нормальном виде (номинатив для имен, первое лицо единственного числа настоящего времени для глагола) предшествуют всем прочим формам» [Тронский 1936: 24]. Грамматическое значение (как и лексическое) приписывается слову в целом. «Словесно-парадигматические представления состоят из лексемы и неупорядоченного множества морфологических свойств» [Даль 2009 [2004]: 331]. Следы старого подхода до сих пор сохранились в привычной для нас терминологии: восходящие к античности и скалькированные в русском языке термины склонение, спряжение, словоизменение отражают представление о том, что не окончание присоединяется к основе, а изменяется все слово целиком.
Модель «морфема – слово» исходит из членения слова на основу и аффиксы, приписывая грамматическое значение лишь последним; она появилась в Европе уже в Новое время. Появление понятий корня и аффикса в европейской традиции, как уже упоминалось, обычно связывается с первой в Европе грамматикой древнееврейского языка И. Рейхлина, то есть с влиянием иной традиции. Эта модель возникла в рамках словоцентризма, но в отличие от первой совместима и с несловоцентрическими подходами. Она стала господствующей в структурной лингвистике, полностью или частично отказавшейся от словоцентризма. Однако в русистике, хотя модель «слово – парадигма» уже не существует в чистом виде и выделение основы и аффиксов общепринято, сохраняется компромиссная точка зрения, при которой слово членится на морфемы, но одновременно считается, что лексическое и грамматическое значение свойственны не отдельным морфемам, а слову в целом. См., например, [Грамматика 1952: 18, 113]. Русисты часто говорят о «неразрывном единстве» лексического и грамматического значения слова.
Модель «слово – парадигма» возникла и развивалась на материале флективных (фузионных) синтетических языков: древнегреческого и латинского, она отчасти сохранилась и для русского языка. В этих языках, по выражению П. Х. Мэтьюса, нет проблемы слова, но есть проблема морфемы [Matthews 2003: 285], поскольку в связи с морфонологическими явлениями на стыках морфем их границы часто не очевидны[19 - Именно эта неочевидность была, в конечном счете, главным собственно лингвистическим аргументом в пользу «особого совершенства» флективных языков, в которое верили основатели типологии начала XIX в.]; см. об этом также [Dixon, Aikhenvald 2003: 17]. Способствует такому взгляду и явление внутренней флексии, когда действительно трудно говорить о раздельном выражении лексического и грамматического значения. Образование нерегулярных глаголов в германских языках или случаи супплетивизма лучше описываются в рамках этой модели [Даль 2009 [2004]: 316]. Высказывалась и такая точка зрения: «Латинские (и греческие) слова не поддаются сегментации на морфы» [Лайонз 1978 [1972]: 204].
Однако подход, принятый в русистике, логически уязвим: получается, что значение оказывается свойственно одновременно целому и части. Выделение морфем как сегментных единиц во многих случаях очевидно и в фузионных языках; недаром модель «морфема – слово» хорошо прижилась в европейской лингвистике. Но главный недостаток модели «слово – парадигма» в ее неуниверсальности: она предполагает первичное выделение слов, которое для многих языков оказывается затруднительным. Кроме того, в большом количестве языков парадигма очень велика, в арчинском языке (Дагестан) от одного глагольного корня может быть потенциально образовано более полутора миллионов форм [Кибрик и др. 1977. Т. 3: 36]. Зато модель «морфема – слово» хорошо работает именно для агглютинативных языков [Даль 2009 [2004]: 316]. К фузионным языкам она также применима, хотя, как отмечено выше, в отдельных случаях приводит к трудностям. Модель «морфема – слово», в отличие от другой модели, не делает принципиальных различий между морфологией и синтаксисом: там и там описывается комбинирование элементов [Там же: 315–316].
С этим вопросом связан еще один, обычно не обсуждаемый в русистике, но все-таки поднимавшийся рядом лингвистов. «Чтобы выделить в словоформах лексическое, т. е. основное для слова как единицы словарного состава языка значение, иначе говоря – чтобы в словоформах увидеть именно конкретные слова как таковые, а не отдельные их грамматические формы, необходимо, следовательно, отвлечься от грамматического момента в каждой словоформе, представляющей собой одно и то же слово» [Смирницкий 1955: 15]. Эта точка зрения сохраняется и у А. А. Зализняка [Зализняк 1967: 19–20]. Такой подход естественно согласуется со словоцентризмом, но часто встречается и у лингвистов, с ним не связанных. В виде примера можно привести уже упоминавшуюся концепцию И. Ф. Вардуля или выделение «парадигматических классов» у Г. Глисона [Глисон 1959 [1955]: 143–144].
Встречается, однако, и иная точка зрения. Выше уже упоминалось разграничение «семантемы» и «синтаксической молекулы» у Ш. Балли. Эти единицы, помимо сущностных различий, не совпадали и по границам. Ш. Балли писал: «То , что называют словом, означает или чисто лексический знак, лишенный какого бы то ни было грамматического элемента… или неразложимый комплекс знаков, способный функционировать в речи, так как он бывает снабжен актуализаторами и грамматическими связями… Только в силу чистой условности слово в словаре имеет форму именительного падежа, так как окончание этой формы является грамматическим знаком, который лишает lupus (латинское слово со значением ‘волк’. – В. А.) его качества чисто лексического знака… В силу такой же условности глаголы во французских словарях ставятся в инфинитиве, что создает иллюзию, будто последний выражает глагольное понятие в его чистейшей форме. В действительности же в marcher ‘идти’ понятие “ходьбы” содержится в основе: суффикс -er является знаком, показывающим, что глагол функционирует как существительное» [Балли 1955 [1932]: 316]. То есть для латинского языка, где, как и для русского языка, норма – наличие в слове грамматического аффикса (вроде -us в упомянутом lupus), семантема равна основе; то же и для французского, если в слове есть окончание вроде -er в marcher. Но норма для французского языка – семантема, способная употребляться самостоятельно и равная молекуле, вроде loup ‘волк’. См. также вышеприведенное высказывание А. Мейе об «основе, выражающей понятие». Рассмотрение в качестве лексической единицы основы, а не словоформы встречается изредка и в отечественных работах, посвященных не русскому, а какому-нибудь другому языку: арабскому [Габучян, Ковалев 1968: 47–49], немецкому [Шубин 1962: 23–24].
Сравнивая две точки зрения в общем виде и отвлекаясь пока от их применимости к конкретным языкам, можно видеть, что вторая из них проще. Рассмотрение в качестве лексической единицы некоторой последовательности с обязательными «довесками» в виде окончаний, от которых необходимо затем отвлечься, при прочих равных условиях сложнее, чем взять с самого начала основу без «довесков». Конечно, эти прочие равные условия в языках вроде русского или латинского не достигаются: в них основу выделить обычно сложнее, чем словоформу. Однако в языках иного строя может быть и наоборот. Наконец, при втором подходе лексема выделяется на основе ее собственных свойств, а не как нечто производное от не связанной с семантикой единицы – словоформы. Так что вполне логичным может считаться выделение в качестве базовой единицы не окно и не совокупность словоформ окно, окна, окну и т. д., а их общую часть – окн-. Но этому мешает, прежде всего, наша интуиция, к которой в неявном виде апеллировал и А. И. Смирницкий (см. раздел 1.11).
Еще одно различие словоцентрического и несловоцентрических подходов видно в области словообразования. При словоцентрическом подходе словообразование принято рассматривать как отношение между словами: производящим и производным, при словосложении производящих слов более одного. Ср. типичное высказывание: «Разумеется, словообразование – это всегда образование одного слова от другого» [Лопатин 1977: 9]; впрочем, там же вводится не вполне согласующееся с этим утверждением понятие мотивирующей базы, которая может быть равна как целому слову, так и основе [Там же: 9–10]. Ср. высказывание конца позапрошлого века: «Производные слова – термин, употребляемый в школьной грамматике, но не имеющий определенного научного значения» [Булич 1898: 377]. При несловоцентрических подходах среди составляющих словоформу морфем выделятся среди других и деривационные. Деривация трактуется как присоединение такого аффикса к корню или основе, а словосложение – как соединение корней или основ.
Традиционная модель словообразования связана с большими трудностями. Опять-таки грамматические аффиксы (в данном случае аффиксы производящего слова) лишь добавляют лишнюю информацию, от которой надо потом отвлекаться. Кроме того, даже в русском языке не редкость – когда производящее слово вообще отсутствует или производящими могут с равным правом считаться несколько слов, см. анализ таких слов в [Лопатин 1977: 92–97]. В русском языке связанные корни не так часты, но для языков с развитым корнесложением их существование представляет собой серьезную проблему. Например, в китайском по происхождению слое лексики японского языка сложные слова, состоящие из самостоятельно не употребляющихся корней, – скорее норма, чем исключение [Пашковский 1980: 92, 94]. Здесь неприменимо понятие производящего, а следовательно, и производного слова. А рассмотрение сложного слова как состоящего из слов, восходящее еще к античности, противоречит обычным принципам науки: не принято же считать, что молекула состоит из молекул, а атом из атомов.
Правда, есть случаи, когда традиционные подходы работают лучше. Это бывает, если слово произведено не от основы, а от целой словоформы, см. примеры вроде большевик и недавнее растишка. Но это все же периферия словообразования, а в обычных случаях проще считать, что слово образовано от основ.
Таким образом, сравнение подходов пока в основном свидетельствует о преимуществах подходов, не связанных со словоцентризмом. Словоцентрический подход смешивает не совпадающие между собой единицы языка, пользуется нестрогими и с трудом допускающими уточнение и формализацию понятиями[20 - Показательно такое высказывание о лексеме в традиционном смысле: “Наивное” понятие внутренне эклектично: думается, что такой пестрый букет критериев не нужен ни на одном уровне и ни для одного межуровневого компонента» [Крылов 1982: 134].], постоянно приводит к противоречивым описаниям. Несловоцентрические подходы позволяют этого избежать.
Но, пожалуй, самый серьезный аргумент в пользу несловоцентрических подходов – их универсальность. Традиционный словоцентрический подход казался естественным, пока основным объектом лингвистического описания были флективные языки Европы. «Лингвисты, как бы они ни расходились в употреблении таких грамматических терминов, как “слово”, в любом случае согласны в отношении образцовых примеров» [Базелл 1972: 29]. Как уже говорилось, словоцентрический подход основан на очевидности понятия слова, которое носители флективных языков воспринимают как непосредственную данность (что не исключает существования отдельных сложных случаев). Но для языков иного строя исходить из такой очевидности невозможно. Применение словоцентрического подхода в его привычном варианте к каждому языку, известное по многовековой традиции миссионерских грамматик и не исчезнувшее до сих пор, показало свою неадекватность. Выше уже говорилось о разбросе точек зрения для японского языка, где может влиять даже родной язык исследователя (например, русский или английский), об этом разбросе я буду еще говорить в 1.8. Если при несловоцентрическом описании различия в понимании слова могут сводиться лишь к терминологической несогласованности («словом» могут быть названы разные единицы), то разные представления о слове при словоцентрическом подходе делают описания несопоставимыми.
Несловоцентрические концепции, особенно исходящие из первичности морфемы по отношению к слову, несмотря на свои собственные трудности, оказываются более универсальными, поскольку «морфема, как более простая единица, интуитивно яснее, чем слово: в частности, тут не может быть таких переходных этапов, которые имеют место при оценке служебных морфем в аналитических конструкциях (иногда неясно, следует ли считать эти формы словом или морфемой)» [Успенский 1965: 53]. Отмечу и тот факт, что из различных единиц, перечисленных в предыдущем разделе, самая близкая к традиционному представлению о слове – морфологическое слово – выделяется в общем виде с наибольшим трудом (пусть во флективных языках дело обстоит иначе). Отсюда ее отрицание как универсальной единицы, да и ее содержательная ценность менее всего очевидна.
Если стоять на почве строго лингвистического подхода в смысле изучения того, что Ф. де Соссюр называл языком, то у словоцентрического подхода можно найти лишь немногие преимущества, например однотипное рассмотрение флексии и внутренней флексии (сходство терминов показательно), трактовка слов типа большевик. К этому, может быть, следует добавить и что-то еще, но вряд ли таких случаев особенно много. Однако в последующих разделах главы будет показано, что словоцентризм имеет основания, однако для того, чтобы их найти, нам придется выйти за пределы строго лингвистического подхода.
1.6. Следует ли обходиться без слова?
Казалось бы, словоцентрический подход устарел и может быть оставлен. Можно идти еще дальше и исключить из лингвистики понятие слова вообще. Такая точка зрения существует.
Движение в этом направлении, как упоминалось выше, началось в ряде направлений структурализма, особенно в дескриптивизме, см. об этом [Основные 1964: 197–198]. Здесь морфема стала считаться более важным понятием, поскольку ее легко определить (хотя в конкретном описании не всегда легко выделить), тогда как статус слова неясен, а удовлетворительных его определений не было. См. оценку Л. Блумфилда у М. М. Гухман: у него «слово как определенная языковая единица практически исключается из анализа» [Гухман 1968: 14]. Если у Л. Блумфилда понятие слова еще сохраняется, то в середине ХХ в. такой подход стал доводиться до логического завершения. Британский исследователь пришел к выводу о том, что слово вообще не является единицей языка, это лишь условный или произвольный (conventional or arbitrary) сегмент [Potter 1967: 78]. Обходится без понятия слова и концепция А. Мартине, где под морфологией понимается вариация и комбинирование монем (морфем) [Мартине 1963 [1960]: 376–379]. Как отмечает В. Г. Гак, отказ от слова часто встречался во французской лингвистике ХХ в. [Гак 1986: 43]. См. и точку зрения М. Бейкера: слово – особенность языков с богатой морфологией. Бросается в глаза, что полный или частичный отказ от слова распространен в англоязычной и франкоязычной науке; В. Г. Гак связывает его с затруднением выделения слова во французском языке [Там же]. А отечественная лингвистика не отказывается от этого понятия. Характерно, что В. Г. Гак отказ считать слово основной единицей признает недостатком концепции А. Мартине [Там же: 11]. Впрочем, к такой точке зрения очень близко подошел С. Е. Яхонтов, отказавшись от «слова вообще»; и он, кстати, был исследователем нефлективного китайского языка. Еще один шаг в направлении отказа от слова делается в работах вроде вышеупомянутой статьи [Bickel, Z??iga 2017].
Генеративная лингвистика также чаще не уделяет внимания слову и другим морфологическим единицам, подчиняя морфологию синтаксису и включая слова в более общее понятие phrase[21 - Этот термин, занимающий большое место в англоязычной лингвистике разных направлений, не имеет устойчивого русского эквивалента (фраза в русском]. На задний план может отходить и морфема, но не настолько, как слово: см. мнение М. Бейкера об универсальности понятия морфемы и ограниченной применимости понятия слова. Отказ от выделения слова, однако, может встречаться и у лингвистов, не работающих в рамках генеративизма.
Показательна недавно появившаяся статья известного типолога [Haspelmath 2011]. Ее автор рассматривает различные существующие в науке попытки определить слово или хотя бы выяснить структурные свойства этой единицы и убедительно показывает, что они дают противоречивые результаты и всегда, так или иначе, расходятся с традицией. Также отмечено, что все такие подходы не могут объяснить центральную роль слова в европейской лингвистике, с этим также следует согласиться. М. Хаспельмат обращает внимание и на ослабление интереса к проблемам слова в лингвистике последних десятилетий. Из всего этого делается вывод о том, что в теоретической лингвистике и в типологии необходимо отказаться от понятия слова, изменить привычную терминологию и перестать разграничивать морфологию и синтаксис (достаточно единого морфосинтаксического уровня). Единственная реальность – орфографическое слово, но если такая единица существует в фонетическом письме, это еще не значит, что она существует и в языке. Достаточно использования таких понятий, как морф, форматив, свободная и связанная конструкция и др. Слово же, по выражению М. Хаспельмата, один из «артефактов традиции».
Однако при таком, казалось бы, простом решении возникает ряд вопросов. Почему понятие слова существует в Европе (и, как мы увидим дальше, не только в ней) более двух тысячелетий и большую часть этого времени господствовал словоцентризм? Почему он и сейчас полностью сохраняет силу в славистике и русистике, а также в обще-лингвистических концепциях, базирующихся на русском материале[22 - См., например, достаточно представительный для конца советского периода сборник [Слово 1984]. С тех пор ситуация особо не изменилась. Очень показателен здесь подход И. А. Мельчука.]? Почему и многие западные ученые продолжают считать слово универсалией языка (см., например, [Jezek, Ramat 2009: 392])? Наконец, языке имеет совсем другое значение). Он покрывает специфически русский термин словосочетание, но в отличие от него может относиться и к одному слову, рассмотренному в синтаксическом аспекте. Я. Г. Тестелец предлагает для него эквивалент группа [Тестелец 2001: 111]. Я вернусь к рассмотрению этого понятия в 3.2. почему многие понятия словоцентризма кажутся совершенно очевидными, а его недостатки как бы не замечаются? Все это требует рассмотрения.
Однако прежде чем перейти к этому, следует рассмотреть еще одну проблему, также важную для решения вопроса о слове: как этот вопрос отражается в других лингвистических традициях, возникших независимо от европейской науки и основанных на языках, по строю отличных от греческого и латинского. Этому будут посвящены разделы 1.7–1.9. В первых двух из них будет затрагиваться японская традиция, о которой я уже неоднократно писал [Алпатов 1978; 1979: 25–31; Алпатов и др. 1981; Алпатов 1983; 2011], в разделе 1.9 будет дан краткий обзор иных традиций. О сопоставлении разных традиций с точки зрения вопроса о слове см. [Алпатов 2005: 33–36].
1.7. Японская лингвистическая традиция и ее представления о слове
Эта традиция окончательно сформировалась в период «закрытой Японии» (XVII–XIX вв.), когда японская наука обратилась к изучению исконных элементов собственной культуры, в том числе языка, хотя определенные представления о языке выражались в письменных памятниках и раньше. После начала европеизации Японии в середине XIX в. там переняли и понятия западной науки, в результате произошел синтез традиций и многие прежние представления сохранились, включая и представления о слове.
Для понятия, которое можно было бы сопоставить со словом, вплоть до периода европеизации не было обобщающего термина, вместо него использовались разные термины соответственно для знаменательных и служебных единиц: kotoba (что также значит и «язык») и tenioha. С конца XIX в., после работ Оцуки Фумихико (1847–1928)[23 - При обозначении японских авторов принято сначала давать фамилию, потом имя.], распространился и обобщающий термин go (как его синоним может употребляться и tango, буквально простое go).
Границы go, имплицитно проводившиеся и до формирования традиции, например в ранних словарях, были однозначно проведены учеными XVIII – первой половины XIX в. и с тех пор в каноническом варианте не менялись. Споры шли лишь по отдельным вопросам вроде трактовки показателей пассива и каузатива или сочетаний прилагательного со связкой. Эта единица, как и европейское слово, рассматривается одновременно как единица грамматики и единица лексики. Именно go включаются в качестве словарных единиц в словари[24 - Подача лексики в японских словарях несколько отличается от привычной для нас, например туда могут отдельными словарными статьями включать фразеологизмы [Алпатов 2008б: 188–190]. Но норма – go.], а их структура и сочетаемость описываются в грамматиках. Соответствие go слову отмечали многие японские лингвисты разных эпох [Ootsuki 1897: 36; Tokieda 1954: 64; Watanabe 1958: 96], в том числе авторы сопоставительных грамматик [Soranishi 1971: 10].
Однако за пределами Японии встречается и другая точка зрения на соотношение go и слова. В русском издании японской грамматики [Киэда 1958–1959 [1937]] термин go переводится как слово, однако автор предисловия Н. И. Фельдман пишет: «Традиционного представления о слове в японской грамматической науке нет» [Фельдман 1958: 17]. Впрочем, она же уточняла: неясность границ слова в японском языке – «проблема грамматики, а не лексикологии, поскольку неясность касается соотношения со служебными элементами речи, а словарная форма слова, за некоторыми исключениями, ни у кого не вызывает сомнений» [Фельдман 1960: 28–29]. А. А. Холодович писал: «Японское традиционное языкознание никогда не знало двухтактного разбиения предложения: сперва на значимые слова, а затем на значимые морфемы. Оно членило предложение одним-единственным способом, сегментируя его на значимые части одного-единственного уровня. С точки зрения современного европейского языкознания эти значимые части предложения… являются морфемами» [Холодович 1979: 13]. Последнее неверно уже хотя бы потому, что сложные слова в японской традиции (по крайней мере, в ХХ в.) в свою очередь делились на морфемы.
Чтобы разобраться в том, насколько это точно, рассмотрим подход к выделению слова у японских ученых. Особо значимы идеи одного из виднейших японских лингвистов ХХ в. Хасимото Синкити (1882–1945). Его концепции приобрели большую популярность в Японии (в частности, известная у нас благодаря русскому переводу грамматика М. Киэда составлена под значительным его влиянием); в то же время Хасимото, в отличие от многих других ученых, эксплицитно обсуждал проблему определения go и критерии его выделения. До него эта единица или не определялась, или определялась нестрого: скажем, Оцуки определял go так: «Состоит из одного или нескольких звуков» [Ootsuki 1897: 36]. То есть поначалу и в Японии стихийно господствовал первичный словоцентризм, но Хасимото уже ориентировался на европейские работы, где давались определения слова.
Вопреки мнению А. А. Холодовича, членение у Хасимото вовсе не однотактное, а даже трехтактное. Сначала предложение делится на минимальные синтаксические единицы – bunsetsu (их не было в традиции до европеизации, но их уже вводил Хасимото). Эти единицы определяются одновременно по синтаксическим (возможность быть потенциальным минимумом предложения) и акцентуационным (паузы) признакам [Хасимото 1983 [1932]: 53]. Далее bunsetsu членятся на go. Эти единицы делятся на самостоятельные, способные сами образовать bunsetsu, и несамостоятельные, лишенные такой способности; это разделение соответствует делению на знаменательные и служебные единицы [Там же: 53–54]. Далее go членятся на составные части: корни (gokon) и аффиксы (setsuji) [Там же: 54], именно их можно сопоставить с морфемами.
Таким образом, европейскому слову у Хасимото соответствуют две разные единицы: многие свойства слова и многие европейские и американские определения его, включая определения Л. Блумфилда и Е. Д. Поливанова, относятся к bunsetsu (дословно ‘раздел (сустав) предложения’). Это понятие впервые сформулировал именно Хасимото (к моменту начала европеизации в японской науке не успел сформироваться синтаксис, который строился в конце XIX – начале ХХ в. уже с учетом европейской и американской науки и окончательно был разработан Хасимото). Но оно прочно вошло в японскую науку; как уже упоминалось, именно эти единицы отделяют пробелом в тех редких случаях, когда он используется. Однако единицей словаря и у Хасимото остается go, являющееся, как и европейское слово, также грамматической (но не синтаксической) единицей.
Но несовпадение с европейским подходом этим не исчерпывается, что видно, когда Хасимото начинает выяснять, чем аффиксы отличаются от несамостоятельных go. Он пишет: «Те и другие присоединяются к способным быть самостоятельными go и образуют единицы, которые могут функционировать самостоятельно: таким образом, они имеют совершенно одинаковые свойства, однако почему же мы считаем, что единицы, образованные в первом случае, являются bunsetsu, а единицы, образованные во втором случае, – go?» [Хасимото 1983 [1934]: 72].
Рассматриваются разные признаки аффиксов и несамостоятельных go. Те и другие могут, например, присоединяться к целым go. Их различие, по Хасимото, в другом: «Хотя аффиксы присоединяются не к отдельным go, а к достаточно большому его количеству, их присоединение ограничено узусом, они не могут присоединяться к любому go. Однако go второго типа [несамостоятельные. – В. А.]… хотя не присоединяются ко всем go, но, как правило, присоединяются ко всем go определенного класса (например, ко всем именам или всем предикативам[25 - Предикативы в японской лингвистике – общее название для глаголов и предикативных прилагательных, см. 2.10.]). Это присоединение свободно и регулярно… Если так, то среди лишенных самостоятельности единиц, присоединяемых к go и придающих им добавочное значение, следует выделять свободно и регулярно присоединяющиеся ко многим go единицы (go второго типа) и присоединяемые только к ограниченному числу определенных узусом go аффиксы» [Там же: 73–74].
Данный критерий очень напоминает известный в русистике критерий обязательности, предложенный А. А. Зализняком. Хотя он сформулирован для элементов значения, но определяет и статус морфем, имеющих соответствующее значение: если морфема присутствует в любой словоформе некоторого класса (например, части речи), то она обязательна для данного класса и этот признак необходим (но не всегда достаточен) для ее признания грамматической [Зализняк 1967: 25]. На морфемном уровне этот признак отграничивает грамматические (словоизменительные) аффиксы от лишенных обязательности деривационных (словообразовательных) морфем. И определяется он у А. А. Зализняка для словоформ, границы которых предполагаются уже установленными, а к служебным словам он не применяется вообще; это соответствует традициям русистики. Однако у Хасимото критерий используется совсем иначе: для определения границ go, то есть слова. Необязательные для того или иного класса служебные элементы в обоих случаях трактуются как морфемы внутри слова: словообразовательные аффиксы в русистике, аффиксы вообще у Хасимото, а трактовка регулярных грамматических элементов резко различна. Если бы критерии Хасимото применялись к русскому языку, то, например, последовательности морфем коровка и путевка трактовались бы как сочетания знаменательных слов коровк и путевк со служебным словом а. Разумеется, для русского языка никто никогда такого не предлагал, но для японского языка Хасимото не столько предложил что-то новое, сколько эксплицировал традиционные представления (как и А. А. Зализняк эксплицировал то, что уже давно принято в русистике). И его идеи стали общепринятыми в Японии.
Выдвигая данный критерий, Хасимото отказывается использовать другой, согласно которому служебные go присоединяются к знаменательному go, а аффиксы к корню. Однако как раз последний признак в русистике разделяет служебные слова и аффиксы – части слова[26 - Исключение составляют так называемые постфиксы вроде -ся: считается, что они присоединяются ко всему слову. Но постфиксы отличаются от обычных аффиксов: в принятых выше терминах это форманты.].
Теперь сравним японские go и слова, выделяемые в отечественной и западной японистике. При довольно большом разбросе мнений вне Японии почти никто не проводит границы слов в точности там, где в Японии проводят границы go. Редким исключением была грамматика [Пашковский 1941], автор которой просто скопировал японское членение, переведя go как слово (позже автор грамматики пересмотрел точку зрения). Если для имен мнения бывали разными (см. 1.8), то глаголы и близкие к ним по свойствам предикативные прилагательные и в отечественной, и в западной японистике рассматриваются как слова со значительным словоизменением. За пределами Японии большинство приглагольных и приадъективных служебных go (показатели залога, отрицания, этикета к собеседнику, прошедшего времени и др.) принято считать аффиксами (исключение – связки). Те же морфемы, которые Хасимото относил к аффиксам, считаются аффиксами и здесь, но относятся к сфере словообразования.
В целом можно считать, что понятие несамостоятельного go покрывает понятия словоизменительного аффикса и служебного слова, а понятие самостоятельного go ближе всего, в привычных для нас терминах, к принятому в русистике понятию основы слова (в его состав могут входить корни и словообразовательные показатели). Считать основу единицей лексики, а аффикс – единицей грамматики – решение, не свойственное ни исконной европейской, ни русской традиции, но довольно близкое к тому, как Ш. Балли выделял семантемы. Аналога словоформы в вышеуказанных значениях в японской традиции нет, в этом (и только в этом) смысле справедливо высказывание Н. И. Фельдман об отсутствии в этой традиции понятия слова.
Все сказанное, однако, следует уточнить в связи с еще одним свойством японской традиции, о котором до сих пор не упоминалось. Не все из того, что японистика вне Японии считает аффиксами, оказывается в японской традиции в числе отдельных go. Иначе трактуются (для современного языка) три показателя: настояще-будущего времени индикатива, грубого императива и одного из деепричастий (а также омонимы последнего: показатель отглагольного имени и еще один показатель императива). Кроме того, морфемное членение японских предикативов часто не соответствует членению, которое получается после применения обычных правил морфемного анализа.