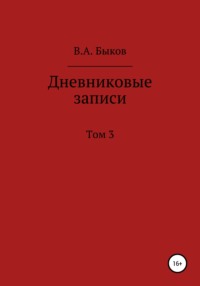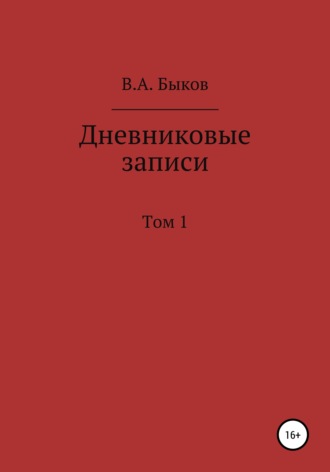
Дневниковые записи. Том 1
– А в связи с чем? И почему со мной?
– В связи с юбилеем Уралмаша, а фамилию Вашу мне назвал М. А. Рассаднев. Так когда и где?
– Да хоть сейчас. Вы можете подъехать?
И получив от него согласие, назвал ему адрес, поведал, как лучше до меня добраться, и упомянул характерную особенность моего дома – соседство с Кировским универсамом, что на углу улиц Стахановская и Уральских рабочих.
Продействовал он, как типично российский человек. Из сверхобстоятельной моей адресной и маршрутной информации он больше всего запомнил последний признак… и, с помощью такого же класса консультантов, проехал из города на трамвае вокруг всего Уралмаша и вылез у нашего второго Кировского… но на ул. Машиностроителей. Тем не менее, заявился ко мне в точно названное им время. Пройдя в мою комнату, он, не взглянув вокруг, тут же уселся на указанный ему стул спиной к книжным полкам. Первый его вопрос о том, как я отношусь к Фрейду, был настолько неожиданным и странным, что я не разобрал сначала, о ком он говорит, и даже переспросил его. Тут он, слегка повернувшись, повторил вопрос и бросил взгляд на стоящую за стеклом книжку Фрейда, которую, значит, он успел заметить. Я ответил кратко, примерно в виде у меня написанного про Фрейда и власть. Он остался доволен, но не преминул уточнить на счет власти, что лучше ее заменить на человеческую устремленность к проявлению своего Я, на извечную, по Кропоткину, устремленность к личному преобладанию и власти над другими, что и было к еще большему его удовольствию мною тут же подтверждено. В таком философском духе у нас и пошел с ним разговор, лишь изредка прерываемый краткими вопросами об Уралмаше и конструкторской работе.
Чуть не трехчасовая беседа еще сильнее укрепила непроизвольно возникшую при встрече мою к нему симпатию. Он оказался человеком искренним, знающим себе цену, в меру критичным и, вместе с тем, умеющим что-то из ему понравившегося похвалить, но и тут – не без отдельных вполне уместных замечаний. Простым в общении
и обладающим способностью поддержать умело и со знанием беседу на любую тему. Главное же, что произвело впечатление, это его постоянно чувствующаяся душевная открытость. Окончил он наш Горный институт, работал лет 15 геологом, а затем, после какого-то трагического случая, перешел на оседлый образ жизни и стал писателем. Сейчас он заключил контракт на подготовку юбилейного, к 70-летию, издания книги об Уралмаше.
Понравилась мне одна его мысль о России: «То, что она территориально уменьшилась, – сказал он, – даже хорошо. За прошедший период мы израсходовали весь потенциал на войны и расширение границ вместо того, чтобы заняться, как это давно стали делать другие, внутренними проблемами и обустройством жизни на своем пространстве. Так что нам еще, может, и подвезет». «Да, – добавил я под его одобрительную реплику, – разве после того, как заберемся, более или менее, на очередной виток исторической спирали».
16.12
Три дня назад, хотя и после болезни, но как-то неожиданно скончался Альфред Александрович Вальтер. Сегодня его хоронили. Было много сказано теплых о нем слов, особенно, со стороны родственников второго поколения, которые все подчеркивали ум, мудрость, добрые и правильные по жизни его советы.
В моих же глазах он слыл настырным спорщиком даже по самым очевидным вещам. Спорил он на работе, спорил и в быту. Его аргументация в защиту оспариваемого была почти всегда слаба, а порой и вообще не выдерживала элементарной критики. Я уже упоминал об этом его «качестве», которое он частенько и особо наглядно последнее время демонстрировал нам при встречах в саду у Скобелева. Сколько бы нас не было, мы все выступали как единомышленники, лишь Вальтер упорно оказывался на другом, против нас, берегу. Причем забирался на него настолько нелепо, что мне часто казалось: а не разыгрывает ли он нас, изрекая какую-нибудь свою нелепость?
А ведь, может, разыгрывал. И если так, то разыгрывал весьма талантливо. Но зачем?
Вечная ему память.
22.12
Вчера устроил мальчишник по случаю 75-летия. Были: Нисков-ских, Башилов, Орлов, Бакунин и сотрудники из бюро, с кем начинал работу, а затем продолжал ее вплоть до выхода на пенсию. Приехал из Тагила бывший первый начальник цеха прокатки широкополочных балок В. С. Губерт, с которым мы сошлись близко при пуске универсального
балочного стана (УБС) и как бы продолжили эстафету приятельских отношений между Г. Л. Химичем и С. В. Губертом-старшим, возникших за 25 лет до таковых наших, на базе пуска первого уралмашев-ского рельсобалочного стана. Приезд Вальдемара Станиславовича был особенно знаменателен, поскольку четверть века назад состоялся, кроме того, еще и официальный пуск УБС. За несколько дней до этого я был по своим делам в цехе прокатки широкополочных балок. Позвонил Губерту и попросил его подойти в цех и пройтись по нашему «детищу». Мы прошли с ним вдоль всего цеха и нашли стан в его фактически первозданном проектном виде.
На юбилее произнесено было много торжественно-хвалебных речей. Содержащееся в них соответствовало собственной критичной оценке мною содеянного, характерным чертам моей природной натуры и потому произносилось, кажется, вполне от души и без заметных преувеличений. Встреча, по моему обычаю последних лет, состоялась у меня дома и, судя по количеству выпитого, к взаимной, как говорят, удовлетворенности – хозяина гостями и наоборот. Последняя была, смею надеяться, усилена также тем, что в заключение я вручил каждому из пришедших свою вторую книжку «Два полюса жизни».
29.12
Вчера в Тагиле состоялся юбилейный вечер, посвященный 25-летию со дня пуска балочного стана. Вечер организовал цех. Присутствовало много мне знакомых лиц, связанных со строительством этого объекта. Встреча прошла в обстановке сумбурных воспоминаний, когда каждый из ее участников вовсю старался опередить другого и донести до окружающих что-либо особо ему запомнившееся из событий тех давних пусковых лет. Произнесено было много добрых слов в мой адрес – и по поводу стана, и моего прошедшего дня рождения. В одной из речей теперешний начальник цеха прокатки широкополочных балок Виктор Николаевич Колягин, характеризуя стан, неожиданно отметил особую «простоту, прочность и надежность» его оборудования. Эти три слова определяли мое конструкторское кредо, мои основополагающие принципы и подходы к конструкции оборудования. Я их придерживался и активно пропагандировал чуть не с первых лет своей работы на Уралмаше и давным-давно даже придумал для них аббревиатуру – «Квадропрон»: два «про» – простота и прочность, «н» – надежность. Не удивительно ли, в краткой оценке тобою сделанного услышать из уст человека, лишь косвенно связанного с твоей сферой конструкторской деятельности, из слова в слово то главное, чем ты руководствовался при его, этого сделанного, создании? Затем Колягин вручил мне солидный сувенир в виде каменно-бронзовой композиции
с вмонтированными в нее часами, который, после им сказанного, я принял с полным удовольствием и осознанием его соответствия моим «заслугам». Такими же богатыми подарками были отмечены и два бывших начальника этого цеха В. С. Губерт и А. А. Киричков.
Балочный стан! Сколько с ним связано? События, люди, споры и уговаривания чуть не каждого сделать так, как тебе надо, как тебе представляется. Не потому, что ты в чем-то умнее и мудрее твоих начальников и помощников, а потому, что видишь все в комплексе объекта, а не отдельных его частей. Но все в деле одержимы самостоятельностью, желанием сделать что-то по-своему. Отсюда одна из задач в сооружении вообще чего-либо путного и, тем более, того, чем по его завершении можно гордиться, авторитетно и доказательно его защищать, не икать при этом и не оправдываться, состоит в том, чтобы максимально бескомпромиссно протащить свой генеральный план, свое видение проекта в целом и при этом не обидеть людей, дать им возможность удовлетворить собственные творческие потенции, более, всячески способствовать их проявлению.
Ко времени работы над проектом этого стана я уже накопил кое-какой опыт, заработал определенный вес и авторитет во внешнем мире и у нас на заводе, а главное, приобрел (подготовил) и там и здесь много своих единомышленников, и оттого даже сейчас, по прошествии уже более четверти века, мне кажется, в рамках реально возможного, тогда удалось сделать почти все, что было задумано.
История создания балочного стана началась в момент моего первого появления на заводе, когда вышло постановление Совмина СССР от 30.12.49 года, позднее уточненного распоряжением того же Совмина от 19.09.51 года за № 19815-р, подписанным лично Сталиным. Последним Минтяжмаш (Уралмаш) обязывался «закончить составление технического проекта стана… и выдать министерствам-поставщикам задания на проектирование и изготовление комплектующего оборудования в ÌV кв. 1951 г.».
В отличие от последующих аналогичных документов, которыми оговаривалось все и вся, что потом, по изменению ситуации, страшно мешало использовать документ, по тогдашним правилам оно было чрезвычайно кратким и открывало Уралмашу «зеленую улицу» для привлечения к работе любого нужного ему соисполнителя.
Тут я отвлекусь и расскажу, как через десяток лет мне пришлось воевать с нашими собственными заводскими «законодателями».
Работа над крупными комплексами всегда сопряжена с большим количеством разного рода так называемых «возмущений» – отклонений от ранее намеченных программ, графиков, планов и неизбежных
при этом корректировок, в том числе, связанных с внесением изменений в уже запущенное для производства оборудование, изготовлением чего-нибудь дополнительного, да еще в чрезвычайно сжатые сроки.
Когда я вылез на уровень самостоятельной работы, мне пришлось заняться подготовкой подобных распоряжений по срочному изготовлению этого «чего-нибудь». Естественно, я обратился к предыдущему опыту моих коллег. Взял в качестве образца несколько ранее подготовленных распоряжений и обнаружил в них такие пошаговые подробности, с указанием служб, цехов, фамилий их начальников, дней и чуть не часов исполнения отдельных операций, которые абсолютно не были увязаны, естественно, ни с уже имеющимися заводскими планами, ни с загрузкой этих служб, ни с документами других конструкторских подразделений. Они совершенно не соответствовали ни здравому смыслу, ни моему пониманию процедуры организации данного процесса.
Вспомнив сталинское распоряжение, его краткость и корректность, взял и написал свой первый проект распоряжения (кажется, в нем шла речь об изготовлении одного узла для индийского рельсо-балочного стана), в котором пунктом 1 признавалась необходимость в этом узле, а пунктом 2 плановая и производственная службы обязывались обеспечить изготовление его к такой-то дате. И все. Напечатал и понес его, помню, на согласование начальнику производства С. Т. Лифшицу, отличному руководителю и мужику… и был им завернут: как это какой-то пацан придумал внести изменения в давно установившийся «порядок». Не подействовали никакие мои аргументы, ни ссылки на Сталина. Потребовалось еще чуть не десять лет, прежде чем мне удалось доказать Соломону Тимофеевичу, а может и кому его уже сменившему, мою правоту и получить согласие на подготовку такого духа приказов и распоряжений по «сталинскому» образцу.
Но почему, задаю себе вопрос, при Сталине была избрана такая краткая и деловая форма организующих документов, которой фактически затверждалась свобода в действиях ответственных исполнителей согласно требованиям оперативной ситуации? Что это, дело ума Сталина? Нет, полагаю, это было, прежде всего, делом рук тогдашних руководителей производства, тех деловых людей, подготовленных еще в недрах предшествующей системы, которых я отношу к воспитанникам Витте. Но и Сталин, судя по многочисленным фактам, будучи великим прагматиком, отлично понимал, что к чему и от кого что зависит. Что живое дело определяется прежде всего не чиновниками, а главными его, дела, исполнителями. Не потому ли он и вся его руководящая «гвардия» тогда теснейшим образом работали и общались с главными конструкторами, директорами заводов и институтов,
учеными, инженерами. И сам Сталин, как недавно вспоминал академик Б. В. Литвинов, «знал всех конструкторов и считал это своей прямой обязанностью».
Один из той гвардии – С. А. Афанасьев, который в годы войны занимался изготовлением боеприпасов, в 80-е был назначен нашим министром тяжелого машиностроения. Мы как раз в это время пускали в эксплуатацию установку ножниц для обрезки боковых кромок листов на Донецком метзаводе. С ним, заводом, до сего времени были мало связаны, не знали их людей, они наших, и думаю, больше из-за этого там произошли какие-то осложнения. Их начальство перепугалось и вместо прямого обращения к нам забросило сразу серию телеграмм на самый высокий уровень. Через два-три дня, когда мы успели уже командировать туда нашего конструктора, раздался телефонный звонок.
– Владимир Александрович? – Да. – С вами будет говорить Министр.
У меня отвратительная память на имена, быстро листаю справочник, нахожу в минтяжмашевских адресах нужную мне фамилию.
– Владимир Александрович, здравствуйте! – Здравствуйте, Сергей Александрович, слушаю Вас, – отвечаю ему и одновременно задаю себе вопрос: «С чем это он и почему ко мне, а не к кому-нибудь из заводского верховного руководства?».
– Вы не расскажете мне, что у вас за осложнения случились на Донецком заводе с ножницами?
– Представляю, что ничего серьезного не должно быть, – говорю я, продолжая одновременно размышлять про себя: «Понятно, старая сталинских лет школа – начинать с конструкторов и получать информацию из первых рук, достоверную, без посреднических искажений и домысливаний. Надо, думаю, постараться ему своим ответом доказательно и авторитетно подтвердить правильность его, министра, действий».
– Это многократно проверенная конструкция ножниц, которые работают на многих заводах, в том числе по соседству с Донецком на толстолистовом стане Алчевского меткомбината. Проект ножниц без изменений, за исключением привязки к конкретному месту их установки, сортамент листов стандартный, полностью соответствуют проектной характеристике. Ножницы прошли полную контрольную сборку у нас на заводе, не было каких-либо замечаний и при их монтаже. Полагаю, если и есть вопросы, то они чисто эксплуатационного и технологического порядка, а более, многих людей обычной устремленности, вместо оперативного делового рассмотрения проблемы на исполнительском уровне, обращаться к жалобе, да еще и в как можно более высокие инстанции. В Донецке со вчерашнего дня находится
наш конструктор, автор проекта Юрий Иванович Смирнов. Рассчитываю, что все образуется и вопрос будет снят.
Чувствую по кратким его поддакиваниям полную собой и мной удовлетворенность. В конце разговора благодарит меня за информацию, выражает надежду на благополучное окончание инцидента и просит при необходимости звонить.
Этого мало. Не выдержал, через пару дней Афанасьев приехал туда и вместе с нашим Смирновым облазил все ножницы. Так что докладывать ему мне не было причины. Все вопросы были сняты как раз к его приезду, может в какой-то степени и в связи с ним: не очень удобно заострять внимание высокого гостя на нелепой «мелочевке». Такова была старая гвардия руководителей. Не знаю, для полноты картины, специально он оказался в Донецке или случайно вспомнил и заехал туда по пути? Но хорошо помню, что тот звонок был системным: на таком же уровне и примерно по аналогичным обстоятельствам в первый год своей работы Афанасьев обзвонил чуть не всех наших ведущих специалистов.
Приехав первый раз к нам на завод, прежде всего пошел в туалет и, естественно, раскритиковал его. Что-то после его отъезда с туалетом сделали, облицевали плиткой, сменили унитазы, но все это при вкривь и вкось проложенных наружных трубах и кранах, которые не только тронуть руками, а видеть противно. Не умели тогда этим делом еще заниматься. Нынче вот зашел сам в туалет, даже не директорский, а общий ниитяжмашевский, – как в раю, почище, чем раньше в ЦК.
Через год, два встретился с Афанасьевым еще пару раз лично. И тогда он тоже произвел на меня впечатление своим поведением. Приглашены мы были к нему вместе с Гриншпуном, в связи с предстоящей встречей группы конструкторов с Рыжковым. Помню, для того, чтобы расположить нас к себе и сделать беседу более душевной и откровенной, он, после нескольких общих вопросов по теме завтрашней встречи с Премьером, вдруг перешел на чисто житейский, чуть не приятельский, разговор об общей обстановке в стране, о своей при таком раскладе судьбе и даже признался нам, что перед ним, уже старым человеком, сейчас задача главная – достойно выйти на пенсию… и сохранить за собой казенную дачу. Мы, после такой открытости Министра, ответили тем же и выложили ему как на духу все наши сокровенные мысли и чаяния.
По результатам встречи конструкторов с Рыжковым очень оперативно, буквально через месяц, вышло соответствующее постановление Совмина СССР. Чуть не на следующий день афанасьевской командой оно было переписано из слова в слово и доведено до нас в виде приказа Министра. А сам он при второй с ним встрече (после того как
мы побывали у Рыжкова) запомнился одной архаичной репликой: «Вот вы собираетесь отменить согласование. К примеру, не согласовывать применение подшипников. Это хорошо – они не наши. А как быть с редукторами, изготовляемыми нами? Закажут без согласования в два раза больше. Что будем делать?». Этого он понять был не в состоянии и такой «свободы» осилить не мог.
Не примечательно ли? И нестандартность мышления, и человечность, и деловитость. И вместе с тем что-то трафаретное из общепринятого, устоявшегося, казенного. Афанасьев был чистейшим продуктом тоталитарной системы, в совершенстве освоившим все ее плюсы и минусы, все нормы «благополучного» для себя в ней пребывания.
Возвращаюсь к балочному стану. После смерти Сталина, не знаю подробностей, но предполагаю, что имелись сторонники другого направления, было признано ориентировать Ново-Липецкий завод на листовое производство, и балочный стан повис в воздухе. Несколько позднее решили организовать производство широкополочных балок на рельсобалочном стане завода «Азовсталь», но и эта попытка закончилась лишь разработкой нескольких аванпроектов его реконструкции. Стране тогда нужен был листовой прокат, и на заводе «Азовсталь» также стали строить мощный комплекс для производства листа. К новому балочному стану вернулись вновь только в конце 60-ых годов.
Как водится, началось все со споров: где и как изготовлять широкополочные балки, в Центре или на Урале, делать их сварными или цельнокатаными. Сторонником сварных выступил ВНИИметмаш, цельнокатаных – Уралмаш. Варить или катать? ВНИИметмаш уговаривал всех, что сварные балки будут много дешевле. Мы соглашались с ним, но при этом выдвигали тот довод, что для реализации более «дешевого способа» потребуется построить дополнительно к их сварочному переделу мощный листовой стан. Стоимость его равна, если не больше, стоимости собственно балочного стана, при этом возрастут промежуточные отходы металла в обрезь при подготовке листовых элементов балок, потребуются дополнительные затраты на транспортировку последних, промежуточное их складирование и хранение. Наконец, вообще никогда еще изготовление чего-либо в два приема не получалось более дешевым, чем в один, тем более что в сварном варианте речь шла фактически о двух самостоятельных переделах, а никаких-то там простых приемах в рамках одного производства. О качестве катаных и сварных балок мы даже не упоминали. Настолько считали убедительным все остальное. Наша точка зрения победила, и был принят вариант строительства балочного стана. Но какого?
Пошли менее напряженные, но все же споры и по этому вопросу, пока нам не удалось доказать, что в стране первый стан нужно строить
большой, на всю возможную номенклатуру балок. Всякие расчетные прогнозы, убеждали мы, не позволят определить истинную потребность в балках, что таковая во всей ее конкретности может быть установлена только при их производстве в полном номенклатурном объеме. А потому строить его, по соображениям минимизации транспортных затрат, предлагалось на Нижнетагильском меткомбинате, т. е. в центре страны. По этим двум последним вопросам решение состоялось также в нашу пользу.
Все упомянутые споры и отстаивания наших позиций мы практически вели совместно с Уралгипромезом, которому была поручена разработка проектного задания по всему комплексу данного объекта. Главным инженером комплекса являлся А. Б. Орлов, а Главным технологом самого стана – К. С. Дроздецкая. С ней и через нее я практически и решал все вопросы с Гипромезом, Заказчиком и Минчерметом.
С Дроздецкой я познакомился еще в начале 60-х годов. Она и тогда значилась Главным технологом, но фактически им не была и на такую роль не претендовала. Была отличным проектантом и, главное, очень четко придерживалась основного принципа в организации работ и разделе «сфер влияния» между конструкторами и проектантами. Никогда не лезла в состав и конструкцию оборудования комплекса, безупречно защищала и отстаивала наши решения перед своими гипромезовскими начальниками, перед Заказчиком и прочими внешними и центральными организациями. Столь же четко выполняла наши требования по размещению оборудования в цехе, обеспечению его надлежащего и удобного обслуживания, устойчивой и надежной работы. Способствовало сему то, что мы оказались с ней «единоверцами» не только по работе, а и по жизни, за все годы теснейшей с ней работы ни разу не «поймали» друг друга на какой-либо даже мельчайшей фальши, скрытом ведомственном или эгоистическом умысле. Всегда исходили только из чисто деловых интересов и получения нужного и полезного конечного результата.
Природа одарила ее приличными способностями и колоссальной интуицией, не одной технической, но и чисто женской человеческой, на новые и полезные дела. К тому же, она обладала еще мощным пробивным потенциалом и не меньшим упорством в отстаивании здравой позиции. Работа с ней доставляла удовольствие в равной степени как рядовым работникам, так и высоким министерским, партийным и прочим начальникам. Она настолько много общалась среди мужиков, что и мыслить стала чисто по-мужски, сохраняя притом всю свою, естественно, привлекательную для них и выгодную для дела женственность. В различных спорных ситуациях успех часто определялся буквально ее последним выступлением. Результативность ее «женских
чар» я отлично знал и в преддверии спорных ситуаций, заранее подговаривал ее выступить после оппонентов и как можно ближе к финалу. Не поддержать Главного технолога, да еще женщину, начальство считало для себя непристойным и в заключении, как правило, подтверждало нами предлагаемое.
А ведь кроме наших совместных вопросов у нее была масса собственных, гипромезовских, связанных с привлечением и работой многочисленных контрагентов: строителей, сетевиков, монтажников, разных согласовательных и контролерских организаций. И все эти вопросы, в силу совершеннейшей безотказности, с одной стороны, а с другой – полной уверенности, что они будут надлежаще решены, поручались ей. Звонишь, бывало, в Гипромез:
– Клавдия Степановна есть? – Нет, она в Москве, пробивает новую сметную стоимость на строительство. Или занимается согласованием каких-то вопросов с санэпидемстанцией. Или только что уехала в Пром-стройниипроект решать там, как строить «дом» для вашего стана… И ведь решала. Четыре – пять, если не больше, раз ей пришлось переутверждать в Москве сметную стоимость на строительство балочного стана – естественно, каждый раз в сторону ее увеличения. Представляю, сколько эти поездки по разным начальникам стоили ей трудов и нервов.
Однако была всегда весела, сердечна, никогда не жаловалась, была подъемна на любое авантюрное предложение. Сброситься и пойти после работы в ресторацию. Поехать ночью в командировку на тот же балочный стан только для того, чтобы не терять время и утром в 8 часов быть на работе. Залезть на крышу цеха и посмотреть, как там с нее «слетел» целый пролет перекрытия. Сам с ней тогда лазил по наружной открытой лестнице, а потом, обсуждая, на наш взгляд, явную слабость, просто «сопливость» крепежных злементов металлоконструкций перекрытия крыши, думал про себя: «Вот, как слетим сейчас туда вниз вместе с еще одним пролетом, он ведь от падения первого не стал крепче». И удивлялся ее бабскому бесстрашию. Лезла по лестнице не ойкая и стояла на краю провала, вроде, как тоже совсем без боязни. Или вот еще вспоминается случай.
В конце 60-ых годов, после защиты техпроекта балочного стана на совместном техсовете Минтяжмаша и Минчермета, собрались с Дроз-децкой и Соколовским, который тогда был вместе со мной, и стали обсуждать, как нам отметить столь знаменательное для страны событие. Вспомнив, что Вараксин, недавно перебравшийся на работу в Москву, только что получил квартиру и живет в ней один в ожидании приезда семьи, я предложил поехать к нему в гости и устроить экспромтное новоселье. Разыскали Алексея достаточно быстро, он был еще на работе, уговорили еще быстрее и вчетвером отправились