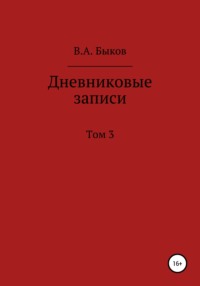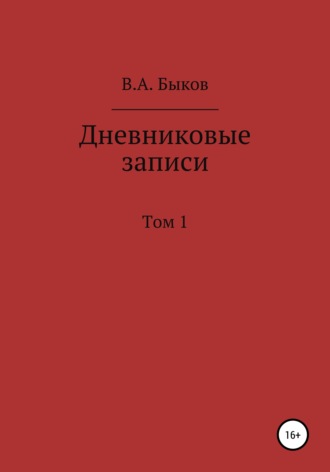
Дневниковые записи. Том 1
вроде того, что бетон менее прочный материал, что он не позволяет применять при ремонтах оперативный и простой способ устранения дефектов методом сварки, требует армирования его в местах соединения деталей, для надлежащего воздействия на Краузе я придумал несколько необычный аргумент.
– Геннадий Николаевич, бетон в два раза легче чугуна, следовательно, габариты контргрузов будут больше чугунных. – Ну и что?
– А то, что не только потребуется дополнительное пространство для их размещения, о чем я обычно толкую, а еще и увеличатся маховые массы подвижной системы вашего динамичного механизма. Вам ведь известно, что момент инерции вращающейся массы пропорционален значению последней только в первой степени, а вот радиусу ее вращения – в квадрате. – Геннадий Николаевич изобразил удивление, ничего не сказал, но больше к данной проблеме не возвращался. Кажется, после этого случая и вообще закончилась бетонная эпопея. Почему, думал потом, имела место столь молчаливо-удивленная его реакция на мое замечание? Мне кажется, лишь по одному возможному обстоятельству: он считал себя обязанным проиграть такой известный момент самостоятельно, но этого не сделал. Правда, я от того в его глазах только возвысился, тем более что и до этого инцидента получил раза два сответству-ющие моим действиям одобрения: «Голова…», но в более определенных для него «руководящих» ситуациях. Реакция его была, как у Химича. Эти люди «казнили» себя за малейшие свои упущения.
Он умер рано, в 66 лет. Умер так же «впечатляюще», как и жил. В день смерти у него был в гостях Б. С. Сомов, который рассказывал, что оставил его в кабинете в 6 вечера. Через полчаса, закончив дела, Геннадий Николаевич вышел из КБ. Стояла отличная погода. Он дошел до ближайшей скамейки, присел… Говорят, что перед смертью в голове человека пролетает вся жизнь. Краузе было что вспомнить…
14.08
О Манкевиче.
Этого талантливейшего конструктора-самородка я увидел впервые будучи еще студентом в 1949 году. Я сидел у Химича, когда к столу подошел смуглый в черном костюме человек и обратился к нему с кратким вопросом, показавшимся мне, тем не менее, значительным и незаурядным. То был Николай Кондратьевич Манкевич. Интересная личность, подумал я. Так оно и оказалось.
В нем все было не от мира сего. Он не признавал никаких авторитетов, никаких общепринятых норм и правил. В конструкторских решениях считал достойным внимания только свои собственные. Все «чужое», как он любил говорить, в десять (а то и в сто раз) было хуже
им сделанного или им предложенного, а потому поручать ему что-либо из известного и хорошо зарекомендовавшего себя в работе было абсолютно не допустимо. Оно обязательно им переделывалось на свой собственный лад.
Став начальником бюро, я понял это после первой попытки выдать ему задания на разработку одной конструкции с учетом применения в ней ряда готовых типовых узлов, что требовалось по условиям непременной унификации оборудования в рамках всего проектируемого объекта. Не знал потом, как отделаться от его «своеволия». Вынужден был, в конце концов, под благовидным предлогом передать эту разработку в другую группу, более «приспособленную» к работе на базе устоявшихся известных решений. Манкевичу же стал поручать только оригинальные разработки, как правило, в единственном числе, которые не мог бы выполнить никто другой, и предоставлял ему полную свободу в осуществлении задуманного. Мы быстро нашли с ним общий язык, к взаимной удовлетворенности, и я считал это одной из величайших моих «побед» на своем начальническом посту.
Самобытен был Манкевич и в бытовом плане, плане общения с людьми, исполнения общепринятых условностей, особо тех лет тоталитарной структуры. Он единственный, кто не занимался в обязалов-ских политкружках, не посещал лекций, собраний, за исключением тех, которые лично считал нужными и полезными для работы, никогда не стоял среди праздно разговаривающих коллег. В предпраздничные дни не был замечен мною в коридорной толпе, хотя бы возле той же стенгазеты.
Признавал он только работу и, если что-нибудь ему мешало ее делать, при всей своей в принципе человеческой простоте и скромности, мог пойти на любую грубость. Даже в вечернее время, когда люди имели полное право позволить себе некоторые «послабления», мог демонстративно выключить радио, таким же образом разогнать шахматистов или других «игроков» за их громкие разговоры, отключить у кого-нибудь нахально телефон.
Манкевич был единственным человеком не только у нас, а и на всем заводе, кому из инженерной братии прощались все выверты. Прощались за творческую индивидуальность, природную одаренность, изобретательность, деловую хватку и безмерно, до самозабвения, преданное отношение к конструкторскому труду, где не всегда творчество, а и очень много «черной» (к сожалению, нужной) работы, которой он тоже умел и любил заниматься.
Не потому ли довольно часто, особенно в неофициальной обстановке, при обсуждении наших дел в кругу конструкторов в те, теперь уже далекие, времена можно было услышать: «Ну, Манкевич – бог».
Или: «Манкевич – талант, трудяга. Человечище!». А ведь это особо высокая и показательная оценка человека, которой среди своих сослуживцев редко удостаиваются даже весьма известные люди.
28.08
Исполнилось пять лет с момента моего ухода с работы. Тогда, в 70 лет, я был полностью в дееспособном состоянии. Конечно, уже давно не совершал воскресные продолжительные многокилометровые походы (летом пешие с рюкзаком за плечами, зимой на лыжах с торением лыжни по целине), лет десять не ездил в наши чуть не ежегодные речные походы, не мотался с приятелями на машине по уральским дальним лесным дорогам, не ездил на рыбалки. Столь же давно четко осознал и нутром своим почувствовал, что время не вечно, что стал близким и для тебя земной конец.
Но по-прежнему любил и природу и лес. Любил, правда, не с такими одержимостью и нагрузкой как прежде, пройтись пешком или на лыжах, проехаться на велосипеде. Мог в хорошей компании наравне с молодыми и без какого-либо ограничения выпить вина и просидеть за разговорами до утра, правда затем, как всегда и давно было заведено, постараться возможно быстро выбить из себя зелье соответствующей выпитому работой или пробежкой. Мог протанцевать с интересной для меня дамой весь вечер на каком-нибудь банкете, посвященном торжественной дате или юбилею, а потом еще, по своей «пагубной» привычке, затащить кое-кого из числа мной избранных и мне приятных людей к себе домой. Мог и любить женщин в полную свою мужскую силу.
В прошедшие пять лет вроде способен был делать и делал то же самое, но (к сожалению, более неприятное мне второе «но») с все уменьшающимися интересом, увлеченностью и с увеличивающимися леностью и прочими, не радующими определениями. В лес стал выбираться не так регулярно и на более краткое время и меньшее расстояние. Встречаться с друзьями реже из-за с каждым годом уменьшающегося их числа. С молодыми своими коллегами общаюсь пока с удовольствием, но если с застольем, то замечаю – все чаще не допиваю рюмку, а то и пропускаю вовсе. За руль автомобиля сажусь с сомнениями и самыми дурацкими для себя вопросами. На последних юбилейных вечерах еще танцевал, но уже подумывал, а не противно ли ей со мной, старым, с обрыдлой мордой, вставными зубами и седой, много больше нормы, головой. Любить? Хотел бы, как и прежде, но уже не могу и по причине не столько снижения собственной потенции, сколько уменьшения таковой даже у самых молодых моих знакомых женского пола.
А вот более удручающий момент. Стал катастрофически терять память на дискретную информацию, на фамилии, номера телефонов и т. п. Известная ироничная реплика в адрес пожилых людей о том, что все «жалуются на потерю памяти, но никто – на потерю ума», не лишена смысла. Во всяком случае, на собственном теперь опыте убедился, что память исчезает действительно много быстрее, чем бы хотелось. Остальные компоненты ума, по причине отсутствия надлежащего тренинга, тоже ухудшаются, но как-то менее заметно. А те из них, что относятся к критической составляющей, думаю, в силу их относительной «простоты» и более частого по жизни применения, вообще пребывают в явно привилегированном, у меня кажется, и вовсе в безупречном, состоянии. Некорректность, алогичность любого текста, устного и, тем более, писанного, я продолжаю схватывать так же быстро и точно, как и в лучшие свои плодотворные годы.
Приглядевшийся мне пять лет назад «испытательный стенд» в виде 650-миллиметрового парапета возле моей трамвайной остановки до сих пор преодолеваю спокойным подъемом на него одной, причем одинаково успешно как правой, так и левой, ногой. Продолжаю ограниченно пользоваться лифтом и, вообще, естественным образом давать организму возможность лишний раз «потрудиться». Не гнушаюсь, например, по возможности, пробежать хотя бы 50 – 100 метров или в хорошем темпе сбежать по лестнице со своего шестого этажа. Не очень регулярно, но занимаюсь гимнастикой, впрочем, регулярно ею не упражнялся и ранее. Ежедневно принимаю, в меру и по сезону, холодный душ.
При всем этом, как и прежде, чуть не со школьных лет, стараюсь не перегружать организм, как говорят, до боли в сердце. Для работы последнего создаю самые комфортные условия и обратный от него «предупреждающий» сигнал воспринимаю с большим на себя неудовольствием. В части так называемых «вредных» привычек руководствуюсь нормой естественного удовлетворения потребностей организма, не ограничиваю их здорово, но и не потворствую им слишком. Полагая, что тут, как и во многом другом, нет и не может быть односторонних подходов и однозначных оценок, ибо очень часто чисто физиологический негатив может не только компенсироваться, но и перекрываться категориями духовного порядка, значительным, например, повышением настроения человека. По тем же соображениям абсолютно не воспринимаю рекламные рекомендации на тему, что нам вредно и что полезно, что можно и что нельзя, именно в силу их, как правило, полнейшей тенденциозной ограниченности.
Думаю, именно потому – я еще вполне здоров и, представляется, более многих своих сверстников. Обязан этим я, безусловно, и своим
родителям, прежде всего отцу, которому старался подражать с самых малых лет. Как и отец, был неравнодушен к воде и солнцу, купался с ранней весны до поздней осени, на солнце, когда позволяла обстановка, пребывал раздетым целыми днями, и всю жизнь считал милыми врачебными глупостями разговоры о необходимости его строгого дозирования. Не любил лекарств и пользовался ими только в крайних, по моему разумению, случаях и с величайшей неохотой. Лечиться старался естественными способами: баня, горячий душ, малина и т. д. Никогда не принимал никаких таблеток в профилактических целях: успокоительных, от бессонницы. Последней иногда страдал, но не переживал. Не выспавшись в одну ночь, досыпал свою норму во вторую.
Благодарен родителям за детские годы, которые прошли в условиях, можно сказать, исключительно правильного воспитания, предоставления мне максимально возможной свободы и самостоятельности, без «сюсюканья» и навязчивой родительской заботливости.
Здоровый, отвечающий здравому смыслу и моему теперешнему пониманию быт проявлялся в нашей семье буквально во всем. Питались мы всегда без излишеств, но регулярно. Пили только сырую воду. Сам мог пить ее из болота и любой «приличной» лужи, но всегда в части количества руководствовался отцовской поговоркой, что «вода мельницы ломает». Никогда в нашем доме не кипятили молоко, где бы оно ни было куплено. Не ведали про обязательное мытье перед едой рук, овощей и фруктов.
Со временем вообще пришел к почти абсолютному для себя, проверенному десятилетиями выводу о желательности, в целях выработки противоядия, естественного «занесения» в организм возможно большего по числу и разнообразию натуральных микроорганизмов и прочих «вредных» элементов (подчеркиваю: естественного, а не специального, искусственного). Точно так же, хотя и с меньшей уверенностью и доказательностью, стал считать противоестественными всякого рода прививки. Во всяком случае, сам за свою жизнь сделал только одну – от оспы, да и то в младенческом возрасте, когда ничего не смыслил и находился в состоянии подопытного кролика.
Считаю, что все нужное для защиты организма, исключая разве некие экстремальные обстоятельства, должно являться прямой функцией самого организма. Со школьных лет я вбил себе в голову еще одно понятие, что именно она, моя голова, является главнейшим инструментом, программирующим оптимальную работу организма, включая эффективную защиту от многочисленных, нормально порождаемых жизнью, внешних возмущений. Давно установил, что «напряженная» работа по созданию людьми различных лекарственных
и прочих средств на 90 % является бессмысленной борьбой с законами природы. Лучшим способом избавления, например, от тараканов является чистота и полное лишение их возможности добраться до нужной им еды.
Разные «вредные» микробы и насекомые приспосабливаются и «совершенствуются» много быстрее, чем создаются людьми новые медикаменты. Именно из-за них, от массового их употребления, появился спид, а от чрезмерно раздутой «пропаганды» резко возросли раковые заболевания. Имеет место явная недооценка последствий и того и другого.
Убежден, что в плане избавления человечества от массовых болезней значимо больше медиков сделали ученые, техники и разные мастеровые, обеспечив его водой, теплом, светом, добротной пищей, удобным жильем и прочими бытовыми благостями.
30.09
Сегодня поехал в редакцию журнала «Урал» на встречу с неким Василием Владимировичем. Два дня назад, в пятницу, связался с ним по телефону, и он, после многих до этого обещаний и надежд, изрек:
– Рукопись прочитал. Вы знаете, – она нам не подходит: не соответствует нашим высоким редакционным требованиям. У нас полно рукописей значительно более высокого качества. Зачем же мы будем заниматься этой?..
– Как же так, – прерываю, – я ее прочитал, она мне понравилась, особо по содержанию и, тем более, в той части, что про Уралмаш и Ми-левскую эпопею, о которой я Вам уже говорил. Разве оформление?..
– Да нет. И то и другое. Конечно, я бы так прямо автору не сказал. Вам могу…
– А может нам встретиться? Нельзя ли, например, в понедельник?
– Хорошо, давайте после 12.
После такой его характеристики, посмотрел на рукопись более приземленными глазами и увидел, что в редакторском плане она действительно не совсем безупречна. Сел за компьютер и два дня провозился, выбрасывая из нее все, что затрудняет чтение и не несет смысловой нагрузки: непомерно длинные и сложные для восприятия предложения, повторы, излишние знаки препинания, явно претенциозные авторские украшательства.
Приезжаю. Встречает молодой человек и тут же без приветствия:
– А я вот просматривал еще раз. Вы ведь по поводу этой рукописи?
– «Какой сообразительный, – думаю про себя, – сразу определил, кто я».
– Вы знаете, есть так называемый «эффект сопричастности». Отсюда, высокая оценка творения моего приятеля, о которой я Вам говорил ранее. Но, кажется, и ваши критические замечания не лишены оснований. Я попытался кое-что подправить за эти два выходных дня. Посмотрите. – И подаю ему пять начальных листов. – Остальное, – говорю, – у меня на дискете.
Он рукопись просмотрел, у меня в чисто редакторском плане ощутимо много лучше. Вот, думаю, сейчас что-нибудь об этом и скажет. Он же, не прочитав и трех строчек, неожиданно выдает свое первое замечание:
– Начало непонятное: о ком речь?
– А что, разве обязательно с фамилии или с названия завода начинать? Там ниже, на первой же странице, видно и кто автор, и где он. Впрочем, если есть желание, можно сочинить и нечто вроде предисловия.
Оставляет без ответа мою реплику, но тут же добавляет:
– Вот сокращение (это он про «КБ»), кто его поймет?
– Как кто? – отвечаю. – Да, это же известнейшая аббревиатура, к тому же и речь по тексту идет о конструкторской службе, а не о конфетной фабрике.
Опять пропускает мимо ушей.
– А это зачем? Какое-то перечисление каких-то подразделений, – никто читать не будет. Мне не нравится, лично я эти строчки, не читая, пропустил бы.
– Подождите, разве не интересно знать, что представлял из себя Уралмаш, какими он тогда многообразными вопросами занимался? Ведь это было полвека назад.
Он все еще на первой странице, но снова замечание, и в прежнем духе.
– Нет человека, его души, самобытности… Одна работа. Мне (опять!) не нравится. Ведь журнал рассчитан на широкого читателя. Раньше вот так писали, а потом… выбрасывали на помойку.
– Что значит человек, его душа? Разве дела не меньше значат для понимания человека? Меня, к слову, наоборот, интересуют как раз дела человека, а не душевные переживания героя и всякие его дума-ния. Только дела и позволяют нам составить верное мнение. Хотя… тут у моего приятеля есть кое-что и на тему о душе. А как понять Ваше: «мне не нравится»? Вкусы разные. Разве региональный журнал должен быть только под одни Ваши или мои личные вкусы? Выбрасывали на помойку? Это, возможно, сейчас? Так потому у вас и батареи (тут я коснулся одной из них, для верности, своей рукой) все еще холодные. В свое время, а я подписывался на этот журнал постоянно, весь
его тираж прочитывался, а не выбрасывался. Как прочитывался? Да, согласно вкусам: одни в нем читали публицистику, другие – романы, третьи – детектив. Так что широкая публика – понятие растяжимое.
Тут до В. В. что-то из моих слов дошло.
– Так, как же нам дальше рассматривать эту рукопись?
– По-моему, как очерк о жизни и работе конструктора.
– Но, если я сейчас так напишу и понесу показать Главному, то я уверен, он скажет: «нам это не надо».
– Возможно, так и скажет, он ведь придерживается Ваших взглядов. Но ничего страшного. Нет, так нет.
Мой собеседник задумался над таким «простым» разрешением проблемы. Помолчал некоторое время и заговорил совсем в ином аспекте.
– А не отдать ли это хозяйство в другой журнал? Я знаю такой: мне недавно звонили и спрашивали: «Нет ли у нас в портфеле чего-нибудь на подобную тему?».
– Зачем? Вы же знаете, насколько случайно эта рукопись оказалась в Вашей редакции. Ну, а раз оказалась, то я и обратился к Вам. Другой журнал меня не интересует.
Он совсем поразился моим столь «лояльным» отношением к судьбе рукописи. Хотел было предложить еще что-то, но в это время к столу подошел и уселся на рядом стоящий диванчик еще один редакторский сподвижник и, также не представившись и не поздоровавшись (видимо, у них так принято), с некоторой долей апломба и весьма ущербного мышления сразу же вступил в разговор:
– Вам что, нужно обязательно напечатать? – И не дождавшись ответа, продолжил: – Вот вы тут проговорите два часа и только того и добьетесь, что надоедите друг другу.
– Почему? Мне беседа с Вами очень интересна, – парировал я, основательно настроившись на менторски спокойный тон абсолютно независимого от них и их решений. После чего он поспешно удалился, промычав что-то неопределенное. Извиняться за него пришлось моему основному собеседнику.
– Вы знаете, у нас сплошные просители, Только вы уйдете – появится кто-нибудь еще. Несут и несут, и все надо прочитать. А что несут, смотрите. – И показал мне чей-то труд с массой перечеркнутых не только абзацев, а и целых страниц, и снова нарвался на мою реплику:
– Ну, зачем же так? Разве можно печатать с такими огромными правками? Тут ведь ничего не будет от автора. Ни содержания, ни человеческой души. А что много ходят, так на то и редакция. Надо уметь радоваться новым людям, новым встречам, уметь и обоснованно отказывать.
Теперь он уже совсем не мог вынести такой «приговор»: я его добил.
– Давайте попробуем отдать рукопись на прочтение нашему Андрею Ильенкову, он как раз отвечает за подобную тематику.
Я не стал отчитывать его за очередное редакторское упущение. Пожелал приятных встреч с новыми людьми и вышел.
Будем ждать заключения Ильенкова.
16.11
Удивительнейшие у нас с Марком совпадения судеб!
Наши родители почти одновременно приехали в Свердловск (мои – из Сибири, его – из Ленинграда), поступили работать на строящийся завод Электроаппарат и поселились на Эльмаше в одном и том же каркасном трехэтажном недостроенном до конца доме. Оба кончили наш Политехнический институт. Одинаково, еще будучи студентами, попали через Химича на Уралмашзавод и там делали свои дипломные проекты. В расчетах ножниц (такая мелочь, тем не менее, характерная с точки зрения одинаковости наших натур) применили один и тот же аналитический метод определения их энергосиловых параметров, так называемый метод виртуальных перемещений, и оба получили за проявленную нами самостоятельность одну и ту же примерно похвалу со стороны Е. В. Пальмова. Оба прошли через хорошую конструкторскую школу и, не побоюсь этого сказать и про себя, оба досконально знали свое дело, знали до мельчайших его подробностей. Оба стали главными исполнителями большого количества проектов: он – в области трубопрокатных станов, я – в области сортопрокатных станов. Он теснейшим образом был связан всю свою конструкторскую жизнь с Первоуральским трубным заводом; для меня таковым, по характеру всей моей работы, стал Нижнетагильский меткомбинат. Оба стали лауреатами Государственной премии. Оба оказались в одном Совете главных конструкторов по борьбе с Госстандартом и его бюрократическими извращениями.
А кроме того, у нас еще масса совпадений и чисто житейского плана.
Марк приводит в своей книжке идиллическое описание довоенной поездки со школьными приятелями на рыбалку в небольшую деревушку Боярку на берегу реки Пышмы, а в этой деревеньке и, похоже, в тот же год, и, такое впечатление, на уровне почти фантастики, чуть не в том же доме, вспоминаю… отдыхал мой родной дядька, и я у него там неделю гостил.
Рассказывает про любимого преподавателя литературы и английского языка Льва Васильевича Хвостенко, а он оказывается… родным братом отлично мне известного ныне покойного горного инженера Виктора Васильевича, с которым мы за свою жизнь выпили не одну
бутылку вина и от которого, задолго до Марка, я знал о трагической истории этого семейства и аресте их отца – торгпреда СССР в Англии.
Повествует о своих дружеских отношениях с Н. В. Байбузенко, а его родная тетка Нина Георгиевна Колосова, с которой он жил на Эльмаше, в предвоенные годы… была самой любимой моей учительницей и привила мне любовь ко всем точным наукам и вообще способность к осознанному, как мне хотелось бы считать, мышлению.
Сводит меня со своим школьным другом Леном Шляпиным, а его жена Марина, выясняется… давняя знакомая по институтским еще, пятидесятилетней давности, временам.
Или несколько из другой области, нас объединяющего. Например, судя по его писаниям, достаточно неравнодушное (вне работы) отношение обоих к женскому полу. Что-то из похожего было еще, но позабыл.
25.11
Долго, чуть не год, ждал звонка от Харламповича: считал, что реакция на нашу последнюю встречу, организованную по моей инициативе в конце прошлого года, должна теперь исходить от него. Несколько даже обиделся, но вчера не выдержал, позвонил сам. Спрашиваю Георгия, а мне в ответ: «Его нет, он умер в июне». Осталась эта декабрьская прошлого года встреча. Он был парализован, но ходил по квартире. Я нашел его в здравом уме и при прежней всегда изумлявшей меня превосходной памяти. Мы выпили с ним по рюмке вина, поговорили, повспоминали о разных прошлых историях и встречах, нынешней жизни и наших детях. На прощание, в доказательство своих способностей, прочитал достаточно длинные неизвестные мне стихи. Со стихами он вошел в мою память 57 лет назад, со стихами в ней и остается. Химик по специальности, гуманитарий по призванию.
28.11
После долгих муторных и унизительных для меня телефонных разговоров, получил от Ильенкова: «Рукопись прочитал, она нам не подходит». Я не стал разговаривать и повесил трубку. Это какое-то сборище тупых и безответственных людей, думающих одно, говорящих второе, делающих третье. Моя настырность проистекала как бы из желания полностью убедиться в подобной их оценке. Однако, отвлекаясь от безобразной внешней формы моих редакционных переговоров, я тех, с кем имел дело, понимаю. Современной публике, к сожалению, надо либо известное имя автора, либо бульварщину.
Посоветовал Марку издать вторую часть своей трилогии в «подарочном» количестве экземпляров, и за свой счет. Надо признаться,
что все мы не писатели и приятны друг другу больше, думаю, именно в силу не раз упоминаемой мной собственной «сопричастности» к общему для нас делу и к знакомым именам.
08.12
Днем телефонный звонок.
– Владимир Александрович, здравствуйте. Говорит Сонин Лев Михайлович, я из нашей писательской организации и хотел бы с Вами встретиться, как это сделать?