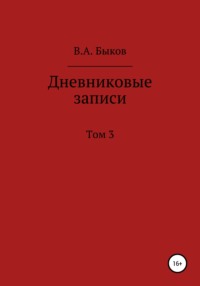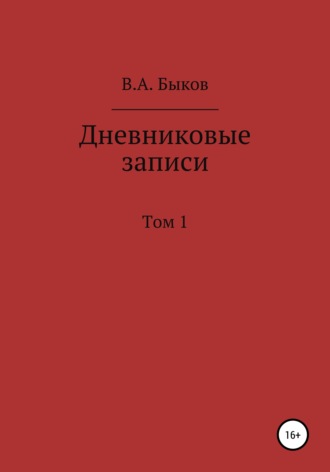
Дневниковые записи. Том 1
Не помню случая, чтобы он лез в какие-либо мелочи, как мы их называем – гайки, никогда не занимался полукритикой и комбинационным структурированием, вытаскиванием отдельных решений из конкурирующих, например, проектов. Это, по его мнению (которое он, кстати, никогда не пропагандировал), являлось делом исполнителей, делом длительной взвешенной и кропотливой работы, а не скоропалительных согласовательных процедур. Он любил и считал правильным принимать проект в целом. А останавливался на том его варианте, может быть и не самом лучшем, автор которого в силу разных привходящих обстоятельств мог бы принять на себя (или которому можно было бы поручить) функции ответственного исполнителя и доведения предлагаемого до логического конца – полного его завершения: разработки рабочих чертежей, изготовления и пуска у заказчика.
В чисто организационных, в том числе, разных кадровых вопросах (представлениях, поощрениях, выдвижениях и т. п.) ему нравилось вытаскивать нужное решение таким образом, будто оно исходило бы не от него лично, а от самих участников собрания. Причем готов был заниматься сей тягомотиной сколь угодно долго, до тех пор, пока оно не декларировалось кем-либо из присутствующих в форме, ему лично желаемой.
Георгий Лукич был средним оратором, но только до тех пор, пока не начинал говорить о том, что его действительно задевало и соответствовало его взглядам, его деловой и гражданской позиции. Безупречен, даже красив, он был в полемических спорах, быстрой реакции на «некорректность» по отношению лично к нему или к тому, что он считал правильным, что проповедовал.
На одной министерской коллегии в ответ на замечание зам. министра Семенова, что затронутый вопрос не относится якобы к его (Химича) компетенции, последовала мгновенная реакция:
– Не знаю, как у вас? У нас принято говорить только то, что нужно, и по делу. – Семенов замолк до конца коллегии.
Сидим с ним у директора завода П. Р. Малофеева, который дня за три до этого лично попросил меня перегруппировать ряд заказов
и включить в них (как он мне сказал, по просьбе заводских плановиков) ряд рольганговых электродвигателей. Ранее в подобных случаях они, в рамках здравого смысла и экономии государственных средств, заказывались на условиях отгрузки прямо на монтаж, минуя Урал-машзавод, а следовательно, его план и отчетность.
Тут нужно отметить, что Химич был государственником. Для него главным в деле была совокупная общенародная эффективность, минимум общественных затрат, а не чисто ведомственная мнимая экономичность в угоду неких придуманных показателей. В данном случае просьбой плановиков как раз преследовались эти цели – включить в производственные заказы электродвигатели и тем искусственно поднять себестоимость и, соответственно, цену изготовляемого оборудования. Что при этом требовались дополнительные затраты по излишней транспортировке электродвигателей, их двойной перегрузке, хранению и переконсервации – никого не интересовало, кроме нас, конструкторов. То было время первых шагов Центра по развалу Государства путем явно надуманного насаждения в соцпрактику «рыночных» отношений.
В конце встречи Малофеев обращается к Химичу: – Кстати, а как дела с моей просьбой по включению рольганговых двигателей в производственные заказы? – Я такого указания от Вас не получал. – Как так?
– Павел Родионович, – вступаю в разговор я, – об этом Вы просили меня.
– Вот с него Вы и спрашивайте, – бросил Химич, как бы обращая внимание директора на нарушение им правил субординации и, одновременно, на глупость этой затеи, хотя сделать что-нибудь для отмены последней, конечно, не мог. Таких примеров мгновенной, острой и к месту реакции Химича на события – масса. За словом в карман он не лез.
Будучи государственником, он не любил платить своим подчиненным деньги зря. Только за дело и вне зависимости от формальных признаков, его характеризующих. Мог одному заплатить за один лист действительно инициативной разработки больше, чем другому за пять стандартных. Мог снять с работника назначенную ему премию. (Правда, пользовался такой мерой редко, по случаям явно нестандартным, например, при невыполнении работником своих обещаний и когда оно никоим образом не зависело от внешних обстоятельств, а являлось следствием собственных упущений исполнителя.) Мог при оценке вознаграждения за рацпредложение спокойно попросить автора сделать перерасчет на меньшую сумму, не объясняя, по своему правилу, почему он так считает. Разве лишь иногда добавив, что оно того, чего ты хочешь, не стоит. Естественно, надо было понимать, не стоит – не по сумме полученной от внедрения экономии, а по факти-
чески затраченному автором труду, несоответствию достигнутому уже им профессиональному уровню и по другим аналогичным причинам вполне очевидного характера. Не помню случая, когда кто-нибудь за такое самовластное решение, идущее вразрез с формально узаконенными правилами подобных расчетов, на него обижался.
Возможный ход той или иной производственной процедуры он, видимо, тщательно продумывал заранее, и потому весьма затруднительно было поставить его в тупик каким-либо «каверзным» вопросом или такого же порядка репликой. Помню единственный случай, когда он оказался не подготовленным к возможному развитию событий.
Обсуждалась одна из тем и, соответственно, кандидатуры для выдвижения на присуждение Государственной премии. В ходе беседы была названа дополнительно, к ранее намеченным и тут названным, фамилия (О.П. Соколовского) с обстоятельной аргументацией желательного включения ее в авторский состав. Химич, привыкший к доказательному парированию любых поползновений на изменение проигранного им плана действий, попал впросак и почувствовал физически себя настолько плохо, что пришлось участникам совещания просить перенести последнее на следующий день.
По тем же свойствам его души и характера, он считал недопустимым отменять принятые решения. Вернуться к пересмотру однажды им затверженного можно было лишь спустя достаточно длительный отрезок времени. Здесь, кажется, срабатывала упомянутая его чисто человеческая слабость. Мы быстро разобрались, в чем дело, и старались никогда, на стадии постановки задачи, не предлагать готовых, так сказать, полностью обкатанных решений. Он оказывался как бы ни при чем, и следовал отказ. Предлагать полагалось все с определенными сомнениями (не важно даже, если они были легко устранимыми). Химич тут моментально «заводился», становился в авторскую позицию, начинал активно защищать плюсы предлагаемого и снимать его минусы. Предложение принималось. Но если, к слову, оно котировалось на изобретение – другая черта Химича – он никому не напоминал об оформлении заявки, соавторстве. Это было ниже его достоинства. Такие «формальности» обязаны были делаться без его прямого участия, исключая подписи подготовленных документов. Не напоминал он и о дальнейшем их продвижении, расчетах эффективности, гонорарах, хотя деньги, похоже, любил, как и все мы, грешные.
Химич был не столько инженер в технике конструирования, сколько политик и дипломат. Проекты готовились его ответственными исполнителями практически самостоятельно без видимого участия Главного (максимум с представлением ему готовых решений на то самое рассмотрение, о чем речь шла выше). Очень редко он предлагал
собственные конструкторские идеи, но вот обсуждать что-либо с нами любил до самозабвения.
Безупречно, почти артистически он принимал всяких визитеров (представителей заказчиков, наших контрагентов). Готов был часами выслушивать любые их глупости, а когда доводилось напоминать, что нельзя так бездарно растрачивать драгоценное время и столь лояльно относиться к человеческой ограниченности, спокойно говорил:
– Не переживай. Если глупость, то наш гость поймет завтра сам или ему подскажут коллеги. Страшнее будет, если предлагаемое окажется не совсем глупостью, а то и больше. Неправильное умрет само по себе.
То же происходило при частных беседах с сотрудниками, бывшими работниками отдела, исключая случаи, когда преследовались некие шкурнические интересы. Тут он был непримирим, даже жесток, и разговор прекращался почти мгновенно. Весьма грубо он вел себя и тогда, когда заведомо необъективно «качались» права об окладе, приработке, заниженной оценке труда этого качателя прав.
Химич в целом был действительно большой личностью. Любил нестандартных людей и нестандартные решения, слыл в какой-то степени анархистом и ненавидел педантизм и начетничество. Был предан конструкторскому труду, был любим нами и отвечал тем же сам.
12.08
Вспомнилась еще одна история, связанная с именем Химича. Она в виде небольшого рассказа была у меня подготовлена для какого-то юбилейного сборника, посвященного нашим монтажникам. Помещаю его здесь потому, что в нем есть несколько добрых слов о моем давнем знакомом по монтажу оборудования тех давних лет, оригинальном и хитром мужике – Дмитрии Ивановиче Панове и еще об одном, уже его знакомом, – уникальном сварщике, имя которого, к сожалению, забыл.
В 1965 году на Нижнетагильском меткомбинате шел монтаж головного термического отделения, рассчитанного на годовое производство 700 тысяч тонн объемно закаленных рельсов, – объекта нового не только у нас в стране, но и в мире.
Ответственным представителем от Уралмаша был назначен я, как инженер проекта этого комплекса, а куратором от цеха внешнего монтажа – Панов, мне до того известный только тем, что с большим опытом, «себе на уме» и уже месяц сидит в Тагиле.
Приезжаю туда. При первой встрече выкладывает мне на подпись, видимо в порядке «знакомства», целую кучу нарядов на исправление разных заводских недоделок и ошибок с расценками в рублях и копейках. Спрашиваю:
– И что, так надо на каждую дырку и на каждый болтик?
– Да нет, иногда удается уговорить, иногда решить за счет каких-либо монтажных послаблений. Вот было бы хорошо их круг расширить. – И немного подумав, добавил: – Неплохо бы привезти и кого из авторитетных начальников, дабы наладить и сделать более деловыми взаимоотношения с Заказчиком, строителями и монтажниками.
Ну, думаю, это не задача. На следующей неделе привожу Главного – Химича. Встречается он с руководителями упомянутых организаций. Ведет с ними разговор, кажется, лишь о дороге, погоде и еще о чем-то, никакого отношения к работе не имеющем. Тем не менее, все формальные препоны после его отъезда почему-то снимаются как по мановению волшебной палочки.
Что касается второй проблемы – названных Пановым «послаблений», то это было моей заботой и я был готов предстать достойным его ожиданий. Дело заключалось в том, что, в отличие от предшествующей практики с вынесением на монтаж большого объема всевозможных подгоночных и контрольных работ, проект оборудования в части доброй половины его состава был впервые выполнен с использованием принципов серийного производства, которым подобное полностью исключалось. Такой принцип, ставший позднее нормой, был нов, монтажники, в том числе и Панов, о нем не знали и планировали работу по-старому.
Разработали мы с Д. И. план использования моего «резерва», и пошел у него со строителями и монтажниками настоящий бартер. Начали, например, они монтаж роликов рольгангов: выставляют корпуса подшипников и начинают готовиться к муторной операции по выверке соосности их, корпусов, расточек. Панов монтажникам: «Разрешаю без выверки, качество гарантирую».
А этих роликов в отделении… штук 300. Работы много меньше, и ясно, что в порядке компенсации можно рассчитывать на соответствующую «услугу» с их, монтажников, стороны. Все стало делаться с взаимной выгодой и удовлетворенностью, без скандалов и упреков. Да и я в глазах Панова после этих двух своих удачных шагов приобрел определенный, и не только конструкторский, авторитет. От Панова же требовалось только одно – не забывать вовремя подсказать монтажникам чего-либо, из запланированного (но проектом «заблокированного») не делать, и так, чтобы состоявшийся дебет явно превышал ожидаемый кредит от чисто уралмашевских упущений.
Монтаж заканчивается, идет прокрутка механизмов, объявляется через пару дней пробный пуск и первая закалка рельсов в масле. Масло охлаждается водой в специальных теплообменниках, обвязанных большим количеством трубопроводов для перекачки 2000 тонн
масла ежечасно. Для того чтобы вода не попала в масло, его тракт должен быть абсолютно герметичен и потому, согласно инструкции, сначала испытан на воде, просушен и только затем уже заполнен маслом.
Выясняется, – не только забыли об испытаниях, но еще и не сварено метров двести труб диаметром 400 – 500 мм. Что делать? Панов говорит:
– Я знаю человека, способного выполнить такую работу.
Находят сварщика, и он, вероятно заранее подготовленный Пановым, с ходу, не задумываясь, обещает высокому монтажному начальству и всем нам не только в срок сварить трубы, но и гарантирует безаварийный пуск системы сразу на масле.
И вот сегодня, по прошествии более трех десятков лет, самые сильные впечатления от данного объекта у меня связываются не с его новизной, не с пуском, не с первыми закаленными рельсами, а с тем, как Химич разговорами о дороге и погоде умиротворил строителей и монтажников, Панов своими «послаблениями» устранил почти бесплатно недоработки и заводской брак, а сварщик – ас в ажиотажно-цейтнотной предпусковой обстановке с заранее обещанной гарантией сварил те двести метров труб, заставив, к тому же, монтажников по пути выкинуть из них (для надежности, как он сказал) все сварные колена и патрубки нашего заводского изготовления.
13.08
О Краузе
Есть нечто, выделяющее человека из общей массы: красота, породистость, статность, одежда. Но больше всего на меня производит впечатление отражение на облике человека его интеллектуального уровня. Как-то, приглашенный на городское собрание заслуженных изобретателей, от нечего делать остановившись на некотором расстоянии от дома встречи, стал мысленно выделять из толпы тех, кто мог бы быть отнесен мною к категории имеющих отношение к данному сборищу. Я не ошибся в части полусотни человек. На их лицах была видна эта печать высокого интеллекта. Не одеяние и не все остальные выше перечисленные признаки, а именно нечто неуловимое в лице и глазах человека заставляло меня причислять его к лику судьбой избранных людей. Все, кого я отмечал, сворачивали прямо к назначенному подъезду, причем с явной демонстрацией уверенности в избранном пути движения вообще, и в данной конкретной частности.
Геннадия Николаевича я «вычислил» в вестибюле заводоуправления Уралмаша в первый утренний день моего там появления. В отличие от многих, поднимавшихся в свои служебные помещения прямо в верхней одежде, он стоял в очереди в раздевалке и явно выделялся
из среды находящихся здесь людей. На его лице, казалось, было написано открытым текстом уверенность в себе и способность к лидерству. Из сопутствующего я обратил внимание на его одежду, некое несоответствие между вполне приличным по послевоенным временам костюмом и лыжными ботинками. Последние я тут же связал с устремленностью их хозяина к натуральному продукту и определенной расчетливости: массовый спортинвентарь в годы советской власти был всегда дешев и доступен.
Волею случая в тот же день, через почти мгновенное знакомство с молодым инженером Валентином Троицким, работавшим у Краузе, и благодаря его содействию я оказался размещенным на территории их конструкторской группы, где мне были выделены стол и чертежная доска. Так началось мое общение с удивительным конструктором и человеком.
Краузе отличался исключительной общительностью, и потому в сферу его влияния, воздействия и очарованности попадали чуть не все, кому судьбой была уготована хотя бы самая краткая с ним встреча. Надо признать, в немалой степени тому способствовала еще и его неуемная страсть к вину. Правда, последнему он четко знал свой час, на работе был всегда вовремя, непременно аккуратно одет и наглядно работоспособен.
Долгое время я считал его непревзойденным добряком, единственной потребностью которого, казалось, было угодить другому. Мое заблуждение. Он был таковым, пока оно отвечало его натуре, природному естеству. Любое же ущемление свободы не терпел органически и защищал свои желания решительно и даже грубо. Однако положительные составляющие его личности были настолько сильны и многочисленны, что он очень редко проявлял подобное.
Первый раз я был свидетелем его «слабости» в 1953 году, когда он в резкой форме буквально отчитал бывшего тогда у нас руководителем лодочного похода П. А. Малькова. Тот позволил себе, со ссылкой на некую якобы имевшую место договоренность, высказать неудовольствие по поводу желания команды, не без активного участия Геннадия Николаевича, «отметить» впадение Туры в Тобол, до которого мы и доплыли-то в вечерний час и, к тому же, после тяжких трудов и «сухой» целой недели. Однако Краузе был лидер, причем неформальный, и потому отстаивать свои «права» таким образом ему приходилось в исключительных случаях. Он их завоевывал другим способом. Ну, например, таким.
В 80-е годы прошлого теперь уже столетия я оказался с Кра-узе в Брянске на модном в те времена министерском выездном совещании по рассмотрению планов новой техники. Помню, как он,
со свойственным ему остроумием, на первом, пленарном, заседании задает мне вопрос:
– Слушай, говорят здесь есть Брянские поляны. Ты не знаешь, повезут нас на них?
На пленарном заседании узнаем, что Поляны устроители показать нам намерены. Два следующих дня многократно слышу от Краузе одно и то же: «Когда повезут?».
Повезли, водят нас по каким-то лесным тропам, по землянкам. Краузе через каждые 10 минут: «Ну, а где Поляны?»… Наконец садимся в автобусы и едем, объявляют: «на Поляны». Чутье у Краузе великолепное. Действительно поляна, а на ней два грузовика с ящиками, закусками и стопами простыней. Останавливаемся у одной. Спрашиваю у него:
– Сколько брать? – Ящик и три простыни.
Расстилаем на траве простыни. Возле нас моментально собирается человек двадцать – по числу, надо полагать, бутылок в ящике и количеству простыней. Любили его безбожно все, он это знал, и потому был в полной уверенности, что одни мы сидеть за нашим экс-промтным «изобильным» столом не будем.
Краузе был мастером шутки, не пропускал ни одного более или менее подходящего на то случая. Мог в деревенской бане, обнимаясь под конец омовения, вымазать чью-нибудь физиономию в саже, а затем в таком виде суметь ее хозяина одеть, довести до дома и усадить за стол под гомерический хохот всех, за ним сидящих. Ночью на привале спереть (припрятанную кем-либо для соответствующего удивления при подходящем моменте своих сотоварищей) бутылку доброго вина, распить ее с кем-нибудь из еще бодрствующих у костерка, заполнить пустую чаем подходящего цвета, подложить обратно и ждать реакции хозяина. Когда тот, улучив момент, самовлюбленно достанет ее из своей заначки, разольет таинственный нектар по кружкам, произнесет тост и все дружно выпьют… чайку. Представить подобный спектакль – не нужно воображения.
Или в упомянутом лодочном походе мы оказались в цейтнотном положении. Лодки, нами тогда заказанные, оказались малы размерами и плыть на них было невозможно. Старик, готовивший их и при первом же с ним знакомстве получивший от Краузе кличку Хоттабыч, увидев такую оказию, объявил: «По спокойной воде, если сидеть тихо, мы как-нибудь до соседней деревни доплывем. А там, я подглядел, есть подходящая большая плоскодонка. Ее я вам устрою». Перераспределяем багаж по лодкам, сажаем в одну из них Хоттабыча, и через пару часов, чуть не черпая бортами воду, благо стоял абсолютный штиль, добираемся до деревни. На берегу действительно лежит лодка
размерами и объемом почти со все наши, стариком сделанные. Через некоторое время появляются мужики и хозяин лодки, оказавшийся, позднее выяснилось, сыном Хоттабыча. Покупка лодки – одно из интереснейших походных событий вообще, здесь особенно. Начальная, названная хозяином, цена ее в 800 рублей после длинных разговоров, разных доводов за и против, чуть не магически снижается до 100 рублей, правда… в водочном двухлитровом эквиваленте. Поскольку у нас его нет, договариваемся операцию перенести на завтра.
Утром отправляемся за водкой. Наша деревня, вторая, третья… Магазины закрыты, деревни как вымерли: все на сенокосах, в лесах или на каких-либо сельхозработах. Возвращаемся с поникшими головами. Выход из положения, как и должно для назначенного впечатления, находит Краузе: «У меня, говорит, есть личных три бутылки коньяка. Одну я оставляю в запас, вторую мы пьем с Хоттабычем и его сыном, третью я отдаю вам и гостям. Ваша задача будет состоять в том, чтобы доказать «купцам» преимущество и очевидную выгодность для них данной сделки в сравнении с вчера согласованной». Далее все происходит по установленному Краузе сценарию. Более довольной, пьяной (от двух бутылок на пятнадцать человек) и веселой компании я, по-моему, не видел за всю свою жизнь. Русь – великая страна великого народа!
Свой 60-летний юбилей он отмечал поистине с королевским размахом в Колпино, где был директором филиала ВНИИметмаша. Днем в пятницу – торжественное собрание в большом, полностью заполненном зале заводского клуба; вечером – официальный банкет человек на 300 в местном ресторане; ночью и в следующие два выходных дня – трехкратное, с недолгими перерывами, домашнее застолье для 20-25 избранных, в основном бывших, и специально приехавших на юбилей уралмашевцев. Не знаю, сколько было выпито, но хорошо помню, что когда мы ввалились после банкета к нему в дом, стоящий в углу комнаты книжный шкаф был сверху донизу заставлен, в чисто краузинском неискоренимом желании удивить, доброй сотней бутылок марочного армянского вина Айгешат, весьма тогда известного, но мало потребляемого. Кажется, последний и послужил началом для бесчисленных последующих шуток, анекдотов, рыбацких и охотничьих рассказов, пересыпаемых, как водится, серьезными разговорами, в которых и был главный кайф подобных сборищ.
Тогда же был нами разыгран подготовленный заранее один спектакль. В подарок Краузе мы (с Нисковских) привезли уральский камень с дарственной надписью, в которой гравер допустил непростительную ошибку, написав его имя через одно «н» – «Генадий». Ошибку, понятно, обнаружили еще у себя дома и решили ее обыграть. Сочинили на стандартном бланке извещение об исправлении кон-
структорского брака, соорудили на нем свои подписи, для форсу добавили главного конструктора, директора завода и, для полнейшего антуража, скрепили последние круглой гербовой печатью. Ошибку Краузе схватил, еще не приняв подарка в руки, при его извлечении из коробки. Реакция сиюсекундная.
– Бракоделы?! – В ответ на реплику, к его и всех присутствующих изумлению, с величайшей помпой на подарок ниже адреса мы тут же прицепили монументально оформленное извещение. А шутки других Краузе воспринимал с не меньшим удовольствием, чем собственные.
В деле он был великим интуитивистом, конструктором от Бога. Он не любил заниматься расчетами, да и не очень владел этой наукой. Но размеры конструкции, материал ее чувствовал, как говорят, нутром. Созидал машины так, как древние греки строили храмы: красиво, равнопрочно и добротно.
Он пользовался на заводе, как и в быту, таким же мощным авторитетом. Будучи всего руководителем группы, решал вопросы за главного инженера завода. Принимал решения всегда самостоятельно, ни с кем из начальства, прямым и дальним, их не согласовывая, и знал заведомо, что они соответствующими службами будут выполнены неукоснительно и даже с превеликим удовольствием.
Его главным рычагом нужного воздействия на подчиненных и коллег было знаменитое «Голова…» с последующими, в зависимости от им желаемого, дополнениями, вроде: «ну, разве так можно?; а не сделать ли нам так?; прошу тебя – сделай!; здорово ты (мы) придумал (придумали)!» и т. п. вариантами подобных приведенным окончаний, просто исключающими иную, чем ему надо, реакцию тех, кому они адресовались.
Еще одна характерная черта Краузе (не только его, но и подавляющего числа талантливых и умных других руководителей). Он долго сопротивлялся исходящим от кого-либо новым предложениям, особенно, в части изменения установившихся, проверенных практикой общемашиностроительных решений. Спорил с предлагавшим долго, аргументированно и остроумно. Но когда соглашался и принимал решение, то затем отстаивал его перед вышестоящим начальством с ничуть не меньшей, чем самого автора, заинтересованностью.
Другой случай. Как-то, в годы нашей увлеченности разными «суррогатными» решениями по экономии металла, Краузе предложил заменить чугунные контргрузы в механизме уравновешивания верхнего валка рабочей клети блюминга на бетонные. Мне этот паллиатив перехода на бетон не нравился в принципе, и тем более в данном конкретном случае использования его в подвижном механизме. Но для оригинальности, в дополнение к моим обычным возражениям