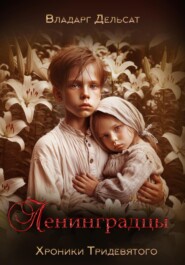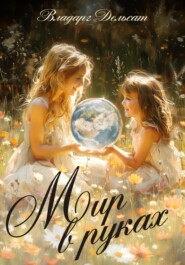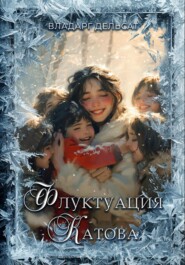По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сестренка из сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сирота
Старшая
Я открываю глаза. Первое, что я понимаю – боли нет, и дышу я без этих жутких трубок. На этом, по-видимому, новости заканчиваются, по крайней мере, хорошие. Руки слабые, почти не двигаются, ноги… Как будто их вообще нет, при этом дотянуться, чтобы пощупать, я не могу. Неужели их отрезали? Да нет, не может быть, с чего бы?
Я явно в больнице, хоть и не очень понимаю, что происходит. Но, думаю, мне рано или поздно расскажут. Злые, ненавидящие слова мамы напоследок я расслышала, но, думаю, это было продолжением сна, не может же мама пожелать мне сдохнуть? Я вдыхаю-выдыхаю, пытаясь понять, что происходит. Во рту сухо, как в пустыне, голова гудит, и мне как-то нехорошо. Да ещё это чувство абсолютной беспомощности пугает, как никогда.
Дверь открывается, входит кто-то… Тётка в зелёном, может, врачиха, может, медсестра. Скорее, медсестра, судя по ворчанию. Я с трудом разлепляю губы, чтобы что-то спросить, но в этот момент она видит, что я лежу с открытыми глазами.
– Пить… – хриплю я, проталкивая слово сквозь пересохшие губы.
– Очнулась, надо же, – хмыкает женщина. В следующее мгновение что-то тыкается мне в губы. – Пей давай, сейчас доктор придёт.
Отпив какой-то удивительно вкусной воды, я понимаю, что не пила месяц, наверное. Хочется о многом спросить, но медсестра чуть ли не силой отбирает у меня поилку и сразу же уходит. Надо будет папе сказать, что они тут грубые какие-то. После питья думается немного попроще, поэтому я пытаюсь понять, что было во сне, а что – на самом деле, но мне не удаётся. Пока я занимаюсь этим, дверь опять распахивается, входит какой-то мужик, опять в зелёном. За ним ещё кто-то есть, но я не вижу, кто.
– Маша у нас в сознании, – весело сообщает этот мужик, доктор, наверное. – Чуть не отключили её, неделю в коме провела.
– Те девочки, которых из школы доставили? – интересуется кто-то из-за его спины.
– Они самые, – кивает мужик. – Характер повреждения кожных покровов одинаковый, поэтому и интересен этот случай.
– Ну, у этой-то всё понятно, – хмыкает ещё один голос, по-моему, мужской.
– А вот мы сейчас посмотрим, – сообщает доктор и просто откидывает одеяло в сторону.
Оказывается, я лежу голая, поэтому сразу же пытаюсь прикрыться, но руки почти не шевелятся, из-за чего делаю я это медленно. Властным жестом мои руки убирают в сторону, а затем, что-то делают, закрыв от меня моё тело. Я не чувствую, что они делают, просто совсем ничего не чувствую, такое ощущение, что просто рассматривают. Но вот затем они начинают колоть иголками руки, отчего я вскрикиваю.
– Итак, несмотря на оперативное вмешательство, имеем частичный паралич, – заключает врач. – Ноги полностью парализованы, рефлексы отсутствуют, частично коснулось бедер, нет чувствительности половых органов.
– Могло быть хуже, – равнодушно пожимает плечами какая-то женщина. – Хотя бы руки работают, то есть повезло.
– Да, пожалуй, – кивает мужик, – хоть как-то двигаться сможет.
Это что? Они про меня? Я что, теперь калека?! Да не может такого быть! Это не может со мной произойти! Зато, кажется, теперь мои могут лупить меня, сколько хотят, я полностью в их власти. Это всё Карина! Новенькая сопля, я её достану! Я её придушу, тварь такую! Я не могу быть калекой, только не это!
Кажется, я что-то кричу, что-то требую, но меня просто игнорируют. Спустя некоторое время в палату опять входит давешняя медсестра, глядящая на меня с брезгливостью. Она тяжело вздыхает и откидывает одеяло, опять полностью меня раскрывая. Я тащу одеяло обратно, чтобы прикрыться, но сразу же очень чувствительно получаю по рукам.
– Калек понатаскали, лучше бы усыпили, как собак, или в озере притопили, – ворчит она, обтирая меня чем-то холодным. – Лежит тут, место занимает.
– Да пошла ты! – кричу я, срываясь на визг. – Я всё папе расскажу!
– У тебя нет папы, – информирует она меня. – И мамы нет. Ты сирота и калека, потому будешь лежать тихо и не мешать, понятно?
Почему-то я сразу верю ей. Каким-то внутренним чутьём я понимаю, что она сказала правду… И предки, получается, от меня отказались? Но почему? За что? Выходит, те мамины слова были правдой? Надо было их удавить! Надо было! Вот выйду отсюда, всех их прирежу, чтобы пускали кровавые пузыри, предатели, я их всех… всех!..
Что со мной будет – вот в чём вопрос. Если мои меня выкинули, то что теперь? Детский дом? Или что? Я даже не представляю, что мне делать. Хочется выть от таких новостей, хочется хоть кому-нибудь сделать больно, хочется убежать. Но убежать я не могу, потому что руки не держат, а ноги… Нет у меня больше ног. Но я так не хочу! Не хочу! Лучше убейте! Гады!
– Убейте, гады! – громко кричу я. – Сволочи, твари, убейте!
Дверь резко распахивается, в палату быстро входит давешняя медсестра и сильно, с оттяжкой, бьёт меня по щекам, раз, другой, третий! Моя голова мотается, крик прерывается, а я ошарашенно смотрю на неё, готовая заплакать, но перед носом как-то мгновенно оказывается внушительный кулак, отчего мне становится понятно – кричать здесь нельзя. Поэтому я плачу, тихо-тихо плачу, стараясь сдержать, задавить рыдания.
Я начинаю понимать, что осталась совсем одна. Ко мне никто не приходит, кроме врача и медсестёр. Они со мной не церемонятся – моют, лазят везде и очень жёстко гасят истерику. При этом внезапно оказывается, что задница чувствительность сохранила хотя бы частично. Хорошая новость в том, что хоть срать под себя не буду, а плохая… Все уколы я отлично чувствую. А они ужас какие болючие, при этом у меня ощущение, что мне эти твари мстят.
Ничего, я их даже из коляски придушить смогу, дайте мне только выбраться отсюда, вы у меня все пожалеете! Все твари! Я выберусь и буду вас сонных резать, каждого и каждую! Сначала медсестёр этих, потом предков-предателей, а Карину на сладкое оставлю. Буду её медленно-медленно, чтобы дохла долго, крыса такая! Не могла по-людски убить!
Но снова открывается дверь, и тварь в зелёной униформе делает мне так больно, что я выгибаюсь и кричу, а она меня по свежему уколу ладонью со всей дури бьёт так, что я едва в обморок от боли не падаю. Как будто им кто-то заплатил… А может, и заплатил? Тот же Васька – у его предков бабла до крыши, может он так мстить? Да легко! Такая же тварь, как и эта су…
***
В больнице я беззащитна. Со мной могут сделать всё что угодно, я и вякнуть не смогу, только вот кроме садистки-медсестры я никому не интересна. Совсем никому, а она… хоть какое-то внимание. Спустя недели две я, кажется, согласна на какое угодно внимание, даже пусть бьют. Быть одной просто невыносимо.
Как-то неожиданно начинаю понимать: это я во всём виновата. Я очень плохая девочка, поэтому всё правильно. Правильно, что делают больно, правильно, что я одна. Не хочу жить, но придётся. Сегодня меня пересадили в коляску, которая теперь будет моим домом навсегда. У меня ничего нет, и никого тоже. Ни дома нет, ни родителей… Сегодня тётка придёт из этого… которые сиротами занимаются.
Интересно, что мне за школу ничего не будет. Физрука посадят, похоже, а мне… Девки ничего не рассказали, а новенькая эта не разговаривает. Говорят, сильное психоэмоциональное потрясение, теперь с ней всё очень плохо. А ведь это я виновата. Я во всём виновата, даже пыталась это следователю рассказать, но он только грустно улыбнулся и ушёл. Не поверил мне. Только злые медсёстры верят в то, что я плохая, никогда не отказывают себе в возможности сделать мне больно.
Со мной не разговаривают, просто игнорируют любые мои попытки с ними заговорить, и всё. А стоит закричать – просто бьют по губам, и всё. Как будто я прокажённая какая-то. Мне кажется, что я схожу с ума, но почему-то всё никак не сойду. Предатели-родители даже не показываются, просто бросили, и всё… Я всё равно их убью! Пусть не прямо сейчас, но убью обязательно! Твари проклятые…
Пусть я сама во всём виновата, но они же родители, они обязаны же! Не хочу! Не хочу быть такой! Ай! За что?
– За что?! – вскидываюсь я.
– Это ты Каринку замучила, тварь… – впервые за долгое время слышу я ответ. Даже не ответ – шипение. – Ты, что бы ни говорили, я знаю! За Стронцеву тебя убить мало, но ты будешь жить. Жить и помнить!
И тут я всё понимаю – они действительно мне мстят. Но кто они ей, кто? Почему они сейчас… Хотя я понимаю, почему… Ведь я действительно, получается, замучила новенькую. И получила свою расплату, видимо, переполнив чью-то чашу терпения. Поэтому я опускаю голову и замолкаю, ведь они правы. А мне поделом.
После этого я много думаю. Меня оставляют одну, не запирая окно и не пряча всякие колюще-режущие. Наверное, надеются на то, что я сама себя убью, но я просто не могу. Один раз даже взяла в руку нож, казалось бы, чего проще, но просто не смогла. Поэтому я лежу и вспоминаю всех тех, кого била, над кем издевалась… Они же молили о пощаде, а потом проклинали меня, но я не верила в то, что эти проклятия чего-то стоят. Вот теперь пришлось поверить, потому что, видимо, настигли они меня.
– Тут? – слышу я спокойный и какой-то очень равнодушный голос, выплывая из своих мыслей. – Ещё одна калека?
– Да, но руки работают, и способна себя сама обслужить, – отвечает ей голос моего врача. – Прошу.
В палату входит дородная дама в костюме и с брезгливым взглядом. Ну, это понятно, она-то к инвалиду пришла, хотя все здесь с каким-то садистским удовольствием называют меня именно калекой, как будто им нравятся мои слёзы. А может, и нравятся, кто же знает… Так вот эта дама входит, по-хозяйски берёт стул и усаживается рядом с моей кроватью.
– Так, ты у нас Мария Нефёдова, – сообщает мне она непривычную фамилию. – Твои приёмные родители тебя разудочерили, поэтому носить их фамилию ты не можешь.
Ещё один сокрушительный удар – я не была родной, значит, ничего они не были обязаны. Это только к родным, а я, получается… Поэтому и выкинули. Зачем я им такая нужна? Всё правильно, даже мстить, получается, не за что. Женщина из какой-то опеки убеждается в том, что информация до меня дошла, и продолжает.
– Несмотря на то что обслуживаться ты вроде бы можешь, сначала отправишься в хоспис, – сообщает она мне. – Свободного места в детском доме для тебя нет, а так хоть будет кому за тобой приглядеть.
– А… когда? – тихо спрашиваю я, пытаясь вспомнить, что такое «хоспис».
– Послезавтра, – отвечает она мне, чему-то улыбнувшись. – Тебя выпишут, а реабилитацией займётся хоспис. Незачем…
Я понимаю, что она хочет сказать – незачем место занимать, ведь я – никто. Мне четырнадцать лет, а жизнь моя уже закончена. У меня совсем нет жизни, потому что я почти беспомощная и никому не нужная. Даже в бордель не возьмут с такой чувствительностью. Значит, моя судьба… А какая у меня теперь судьба? Я не знаю, я просто хочу, чтобы меня не было. Мне бы шанс начать всё сначала или хотя бы вылечить ноги, я бы тогда! Я бы им всем! Я бы…
Тётка уходит, а я тихо плачу в подушку. Скоро придут медсёстры и будут делать очень болючие, хоть и ненужные уколы. Ненужные, потому что меня выписывают, а болючие, потому что им так нравится, а бить меня они не могут – за следы их накажут. Мне остаётся только смириться и надеяться на то, что однажды я смогу всё начать сначала. Может быть, всё-таки вылезти в окно?
Нет, это очень плохая мысль, потому что если спасут, то отправят в психушку навсегда, а психушка хуже любого детдома – оттуда нет выхода. Даже теоретически нет никакого выхода, отчего мне хочется горько плакать, потому что жить такой не могу, но в психушку не хочу.