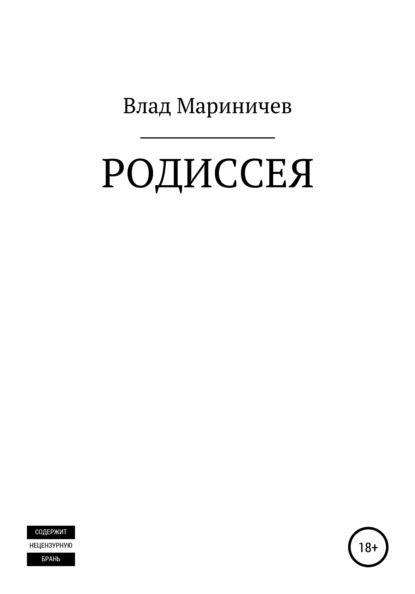По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родиссея
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что же замыслил мой матерый уролог и начинающий автор? Он предлагал сыграть по-крупному: острая диарея. Его можно понять: с точки зрения филологии «наделать в штаны» или «обосраться» от страха – более устоявшиеся языковые формы. Обоссаться позволительно со смеху, а мы с ним в продолжение приема были настроены весьма серьезно и пришли к консенсусу, что мной помыкает страх. С другой стороны, литература занятие опасное. Он знает, чем закончил Пушкин, – все знают, – и не бросается вонючими перчатками в лица посетителей. Он умывает руки. Раком я стал добровольно, оскорбительную эпиграмму в мой адрес, что так долго сочинялась за компом, он не показал. Он корректно отослал меня пригвоздиться к позорному столбу самостоятельно и куда подальше, – вроде как в кабинете и без того хватает неприятных запахов.
У меня в салоне авто и безо всякого дерьма побочки их тоже было предостаточно:
– Не поеду! Не поеду!
– Да почему ж ты не поедешь, Сонечка?
– Плохо пахнет в машине.
– Нельзя так говорить.
– Все равно плохо пахнет! Не поеду!
– Да чем же пахнет!?
– Папой!
Таблетки я похерил и нашел выход в подгузниках. Им всё божья роса, как утверждал производитель. Тем более, что они подарили вторую жизнь коллекции штанов, из которых я выпал не по любви, добавив мне два размера в бедрах. Даже третью, с учетом места их покупки.
– «Мариничев, знаешь, почему тебе не пишется? – Ира отложила мои поползновения с живота на простынь и одернула ночнушку. – Я почитала твои наброски ни о чем…» – «Давай, не сейчас, а?» – «Нет, ничего ты не знаешь и не понимаешь. Ты не понимаешь, что у писателя должна быть ТЕМА! А у тебя её нет. И это страшно с учетом возраста. Если уж не можешь найти работу, надевай штаны и садись, думай над своей темой. Пару месяцев я тебя еще покормлю, а дальше сам». – «А любовь – тема?» – «Да, любовь – тема и очень глубокая». – «Кажется, я свою нашел», – я возобновил экспансию. – «Володь, вот серьезно, если сейчас не уберешь руки, ты ее потеряешь».
Она знала, о чем говорит. И я знал, что она знала. Десять лет мы с ней то сходились, то расходились. Всё наше барахло смешивалось, затем делилось на глаз и вновь вступало в бинарные соединения. И однажды, где-то на исходе первой пятилетки, я обнаружил в своей писанине кое-то любопытное. Пожелтелые, отпечатанные на машинке странички, вложенные в файлик. Ну-ка ну-ка: точно не мое. Гербарий её бедной юности в театральном училище Орла. Выпал, как черт из табакерки, и увлек меня с первой до последней строчки так, что я перечитал его дважды. Рассказ поразительной простоты и силы, без дураков. И уж, конечно, про любовь. Первая любовь и чем она закончилась. Только вот почитаемому ею Тургеневу не нашлось в нем место. Ему сделалось дурно еще в парадном орловского абортария. Я прошел значительно дальше, прямиком к гинекологическому креслу, но и мне под конец будто выпустили кишки наружу.
Ладно, кишки наружу это так, первая реакция. Куда чувствительней последующая. Оказывается, всё это время я спал с человеком незаурядного литературного дарования. Ну спал и спал. Женщина с воображением – как раз в зачет качеству секса. Скверно, что когда бодрствовал, строил из себя непризнанного гения. Подолгу бездельничал, наполняя стакан с первым лучом солнца, устраивал скандалы. В общем, нащупывал подходы к шедевру по заезженным лекалам и сильно обмишурился с выбором роли и её трактовкой. Что и говорить, прескверное ощущение.
Это тогда, а теперь вон, в отсутствии темы, дописался до памперсов: «За мной, читатель! Я покажу тебе настоящую любовь! А, нет, стой пока, где стоишь, мне нужно отлить». Об ощущениях промолчу.
В литературный я поступал по классу поэзии. Согласен, звучит не совсем как фортепьяно. Совсем не звучит. А на слух воспринимается так и вовсе спорно. Настолько спорно, что нам по средам выделяли аж две пары для выяснения отношений. Четыре часа буйства высоких регистров именовались «семинар мастера». Мастер наличествовал, присматривая за нами и осуществляя судейство. Да, в основном – молчаливое, но в молчании его заключалось на порядок больше порядка, чем в окриках повиновения, когда-то сопутствовавших нашему щенячеству. Послушает, как мы надираем глотки, точно соседи, не поделившие предбанник, зачерпнет из глаз, как из колодцев, и понесет на коромысле бровей в самое пекло полемики. С одного ведра плеснет скуки смертной, с другого – тоски зеленой: «was ist das». В общем, обдаст нас самым необходимым, – всем тем, чего нам так не хватало, воинственно отстаивающим эпитет «гений» от затасканности и обходящимся сдержанными эвфемизмами к нему: «жалкое эпигонство», «детский сад» или «полное говно». На то он и мастер. Человек, на ногах перенесший «высокую болезнь». Знающий, что старое доброе водолечение от шизы исподволь расставит всё по своим местам: и жалкое эпигонство, и детский сад, и полное говно.