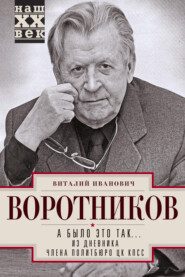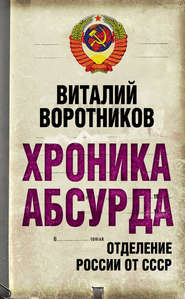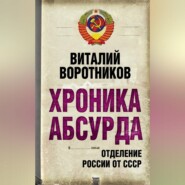По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кого хранит память
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уход из жизни Л. И. Брежнева не был неожиданным. Состояние его здоровья в последнее время было таково, что трагический исход мог наступить в любое время. И все же кончина Л. И. Брежнева отозвалась щемящей грустью в сознании многих, в том числе и у меня. В памяти всплывали встречи с ним в 1950-е годы, – молодым, активным, напористым и авторитетным руководителем. Он лично внес большой вклад в ракетостроение и укрепление безопасности СССР. Восьмая, послехрущевская, пятилетка (1966–1970 гг.) была самой эффективной в развитии всех отраслей народного хозяйства страны. Нельзя сбросить со счетов и постоянное его внимание сельскому хозяйству, где также были, хотя и небольшие, но успехи в начале 70-х годов. Вспомнилась его настойчивость во внешнеполитической деятельности: заключение в 1972 г. Договора ОСВ-2, урегулирование послевоенных границ в Европе и отношений между ФРГ и ГДР, наконец, Хельсинское соглашение 1975 г.
Все это так. Но, с середины 1975 г., последние семь лет жизни Л. И. Брежнева воспринимаются по-иному. Болезненный недуг представил стране и миру совсем другого Брежнева, – равнодушного, безвольного, падкого на лесть и поток наград. Позже, Е. И. Чазов напишет в своей книге: «С времени, после XXV съезда я веду отчет недееспособности Брежнева, как руководителя и политического лидера страны, и в связи с этим – нарождающегося кризиса партии и страны».
Информированные члены ЦК доверительно говорили, что Леонид Ильич сам обращался к коллегам в Политбюро, хотя и не настойчиво, о том, – не пора ли ему, в связи с состоянием здоровья, уйти в отставку. Но его ближайшее окружение воспротивилось этому, убедив, что надо лишь подлечиться и продолжать работу. Таким образом, видя немощь Генсека, они не набрались воли и мужества, чтобы своевременно пойти на кадровые перестановки.
Эти обстоятельства негативно отражались на положении дел в государстве. Страна затормозилась в своем развитии. Ситуация в экономике, особенно в 1979–1982 годах, стала ухудшаться. Наметился определенный спад в темпах развития производства в ряде отраслей промышленности. Отсутствие стимулов научно-технического прогресса сдерживало рост производительности труда. Отставание уровня технологий, особенно на предприятиях выпускающих товары для населения, отрицательно сказывалось на качестве продукции. Не способствовала повышению производительности труда и качества продукции закостенелость кредитно-финансовой системы, и консерватизм ценовой политики.
Ухудшилась в эти годы обстановка и в сельском хозяйстве. В ряде областей были вынуждены ввести талоны, своего рода систему нормированного распределения некоторых видов животноводческой продукции – мяса и животного масла. (Хотя в 1982 г. душевое потребление мяса и молока, в среднем по РСФСР, составляло соответственно: 61 и 321 кг. А в 1999 г., при кажущемся изобилии, 45 и 290 кг.). Однако введение норм снабжения вызывало недовольство населения. Сузился ассортимент промышленных товаров, меньше стало импортной продукции. Причин тому немало и субъективных, и объективных.
При этом многих, в том числе и нас, членов ЦК, руководителей ряда областей и министерств поражало равнодушие и бездеятельность высших партийных и государственных структур, молчаливо взиравших, как страна теряет темпы. Хотя чему было удивляться? Л. И. Брежнев был неработоспособен уже много лет. Долго и самоотверженно тащивший экономический воз А. Н. Косыгин надорвался, тяжело заболел, в 1980 году ушел в отставку, и вскоре, в декабре того же года, его не стало. Почти полностью отошел от дел фактически неадекватный А. П. Кириленко. Не работал, а лишь несколько часов присутствовал в ЦК М. А. Суслов. А в январе 1982 г. не стало и Суслова. И этот перечень болезней, старости и пассивности среди руководства страны можно продолжить.
Различные обращения и письма ЦК к партии и народу о повышении активности в работе, борьбе с бюрократизмом уже не срабатывали. В партийном и хозяйственном активе, в народе зрело недовольство, протест, а с телеэкранов звучали бодрые голоса, звенели награды.
Были и объективные причины. Стало все труднее и труднее вести такое огромное народное хозяйство страны старыми методами. Централизация все более давила и сдерживала инициативу мест. Ни Госплан, ни Госснаб, ни Минфин, ни другие экономические ведомства уже не были в состоянии «проворачивать» этот огромный маховик механизма экономики страны. Настоятельно требовались реформы. Надо было разгружать от забот верхние эшелоны власти, передавать права и ответственность вниз.
К тому же все более расклеивались экономические отношения с зарубежными странами. Контакты нашего руководства с лидерами братских соцстран носили формальный характер. Традиционные крымские встречи Л. И. Брежнева – это была профанация. Буксовал СЭВ.
Было очевидно – нужна ротация, смена руководства, обновление кадров. На высоких государственных и партийных постах некоторые товарищи пребывали по 15–20 лет. Такова была политика брежневской «стабильности кадров». Необходим был поиск и решение экономических и социальных проблем в условиях совершенствования механизма управления, раскрытия потенциала социализма, повышения инициативы и заинтересованности людей в результатах труда. Об этом говорили мы между собой, это понимал и Ю. В. Андропов, и стал буквально с ходу обсуждать эти проблемы, готовить и реализовывать некоторые свои задумки.
Алексей Николаевич Косыгин
Алексей Николаевич Косыгин, личность выдающаяся. Думаю, что в послесталинский период, с середины 50-х и до кончины в 1980 г., он был наиболее авторитетным и популярным в народе государственным и политическим деятелем. Великолепный управленец, эрудированный экономист-финансист, разносторонне образованный и воспитанный, с богатым жизненным опытом, А. Н. Косыгин являлся примером истинно русского интеллигента.
Его недюжинные качества особенно сильно проявились, когда он был назначен в октябре 1964 г., – после отставки Н. С. Хрущева, – на пост председателя Совета Министров СССР.
На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК наряду с другими, выступил и А. Н. Косыгин, тогда член Президиума, первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Эта его речь представляет интерес, так как характеризует А. Н. Косыгина, как высоко ответственного и принципиального человека.
Его речь отличалась объективностью, четкой обоснованной аргументацией, лаконична и не унижающая человека.
Ещё работая на авиационном заводе, а затем в Куйбышевском обкоме партии, я, конечно, слышал от многих, в той или иной степени имевших контакты с Алексеем Николаевичем Косыгиным, самые лестные, восторженные отзывы о нем. Всех поражала его эрудиция, феноменальная память, умение найти решение трудных народно-хозяйственных задач. Подчеркивали его строгость, даже суровость, никакого «руководящего чванства», принципиальность, жесткая требовательность, в то же время, – умение выслушать, оказать поддержку в решении насущных проблем, внимательное и заботливое отношение к людям. Во всем этом я мог убедиться, когда судьба подарила мне возможность частых встреч и бесед с ним в 70-е годы, как в Воронеже, так и в Москве.
Но первое знакомство с А. Н. Косыгиным состоялось в 1968 г. на заседании Президиума Совмина СССР, которое он вел. Обсуждался очередной проект Постановления ЦК и СМ СССР о ходе строительства Волжского автозавода в Тольятти.
Именно А. Н. Косыгин смог доказать необходимость в приоритетном порядке начать сооружение этого автомобильного гиганта в содружестве с итальянской фирмой «Фиат». Ведь ещё в 1962 г. руководство «Фиата» обращалось к Н. С. Хрущеву с таким предложением, но он отверг его. Алексей Николаевич побывал в Италии, познакомился с рядом современных предприятий, и убедился в необходимости и полезности для СССР сотрудничества с теми из них, которых отличал высокий организационно-технический уровень. Конкретно, с фирмой «Фиат» по строительству в Советском Союзе комплекса заводов по производству легковых автомобилей, примерно 600.000 в год.
В 1965 г. в Москве подписано соглашение о сотрудничестве, а в начале 1966 г., – Протокол о строительстве завода легковых автомобилей.
Не без участия Куйбышевского руководства, было принято решение о сооружении завода на площадке близ г. Тольятти, в комплексе с новым городом и промышленно-коммунальной зоной.
Я был приглашен на это заседание, как председатель облисполкома. У нас были серьезные замечания по проекту Постановления, где, на наш взгляд, недостаточно четко были определены меры по комплексному строительству завода вместе с городом и объектами промкомзоны.
Рассматривая поступившие замечания, А. Н. Косыгин сказал, что есть вопросы у Куйбышевского облисполкома, и предоставил мне слово. Я отметил в выступлении, что допущено значительное отставание в строительстве социальной инфраструктуры города от темпов возведения производственных объектов. И предложил записать поручения дирекции завода и строительным организациям предусмотреть конкретные, увеличенные объемы работ и сроки сдачи в эксплуатацию жилых домов, школ и детских садов, объектов культуры, спорта, предприятий коммунально-промышленной зоны.
С моими замечаниями в основном согласились. Я с интересом наблюдал, как строго и умело вел заседание Президиума А. Н. Косыгин.
Здесь следует несколько возвратиться по времени и рассказать о новаторском почине А. Н. Косыгина выработать программу серьёзного совершенствования управления экономикой и развития народного хозяйства страны. Основы этой программы, получившей в дальнейшем название «Экономическая реформа А. Н. Косыгина», были заложены в его докладе на сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК.
В Постановлении Пленума ЦК эта программа была сформулирована так: «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства».
Скороспелые организационно-экономические новации Н. С. Хрущева привели к тому, что ситуация в экономике СССР в начале 60-х годов стала ухудшаться. Наметился спад в темпах развития производства, затормозился научно-технический прогресс, внедрение новых технологий. Снизились темпы роста производительности труда, ухудшалось качество выпускаемой промышленной продукции. Чрезмерная централизация управления народным хозяйством страны сковывала инициативу на местах. Не срабатывала, закостенелая по своей сути, система материальных стимулов.
Все эти и другие негативные тенденции, более чем кто бы ни был, ощущал А. Н. Косыгин. Он и выступил с инициативой проведения широкой экономической реформы.
С привлечением ученых-экономистов, производственников и управленцев была разработана система, суть которой определена в её названии. Эти предложения были доложены, рассмотрены и одобрены Политбюро ЦК. Они и вошли составной частью в доклад А. Н. Косыгина на Пленуме ЦК в сентябре 1965 г.
Каковы принципы «Экономической реформы А. Н. Косыгина»?
Определено, что руководство промышленностью в современных условиях должно строиться «на сочетании централизованного руководства с расширением хозяйственной инициативы предприятий, с усилением экономических рычагов и материальных стимулов в развитии производства, с хозяйственным расчетом». Реформа указывает на три главных направления совершенствования форм планового руководства экономикой и методов хозяйствования на предприятиях:
– повышение научного уровня государственного планирования экономики;
– расширение хозяйственной самостоятельности и инициативы предприятий, укрепление хозрасчета;
– усиление экономического стимулирования производства с помощью цены, прибыли, премий, кредитов.
Основные меры по расширению хозяйственной самостоятельности предприятий:
– сокращено число показателей, утверждаемых сверху. Главным показателем работы предприятия, как и всех отраслей промышленности, становится не общий объем продукции (валовая продукция), а объем реализованной продукции. Предусматривалось упорядочение системы ценообразования, внедрение экономически обоснованных цен на продукты промышленности и получение предприятиями прибыли;
– по-новому поставлен хозрасчет, экономическое стимулирование предприятий. На каждом предприятии предусматривалось создать поощрительные фонды: для развития производства и совершенствования техники, материального поощрения рабочих и служащих, улучшения условий их труда и быта. Эти фонды образуются из отчислений от прибыли. Размер средств, оставляемых предприятиям, ставится в зависимость от использования производственных фондов. Вводится хозрасчетный принцип в отношениях между предприятиями-смежниками, одновременно и их материальная ответственность за выполнение договорных обязательств по поставкам продукции;
– повышалась заинтересованность в результатах работы коллективов предприятий в целом и каждого его работника. Из фонда материального поощрения рабочим и служащим кроме основного оклада зарплаты выплачиваются не только премии за высокие показатели работы, но и выдаются единовременные вознаграждения в конце года (так называемая тринадцатая зарплата). На предприятиях образуется кроме того, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства;
– были разработаны в 1966–1967 годах оптовые цены на продукцию легкой, пищевой и тяжелой промышленности, новые тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на грузовые перевозки.
Уже в 1965 г. принятые сентябрьским (1965 г.) Пленумом ЦК меры стали претворяться в жизнь.
Однако перевод промышленности на новую систему хозяйствования проходил постепенно. В январе 1966 г. она была переведена лишь на 10–12 предприятиях в разных регионах страны, работавших многие годы рентабельно. К концу года экономическая реформа охватила 704 предприятия с числом работающих свыше 2-х миллионов.
В 1967 г. на новую систему переводились отдельные отрасли промышленности. Первым перешло к работе по-новому Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления (министр К. Н. Руднев). Увеличилось число таких предприятий во всех отраслях промышленности. На их долю приходилось около 40 процентов всей промышленной продукции.
К концу 1968 г. на новую систему хозяйствования были переведены предприятия всех министерств машиностроения, а также автомобильной, лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и некоторых других министерств. В 1970 г. перевод промышленных предприятий на новую систему был в основном завершен, они дали 93 процента всей промышленной продукции.
Результаты осуществления экономической реформы положительно сказались на итогах развития народного хозяйства в восьмой пятилетке (1966–1970 гг.), которая по большинству показателей работы стала лучшей, самой эффективной по сравнению с предыдущими и, тем более, с последующими пятилетиями. Так среднегодовые темпы прироста национального дохода за этот период составили: 7,2 %; объема реализованной промышленной продукции – 9,4 %; производительности труда – 6,4 %; фонда оплаты труда – 9,4 %. Прибыль по народному хозяйству (в сопоставимых ценах) выросла за пятилетие более чем в два раза.
Однако следует признать, что в последние два года 8-й пятилетки реформа стала пробуксовывать, а в 9-й пятилетке фактически сведена к минимуму. В чем причина такого положения?
Ряд авторов, анализировавших ход реформ, называют ряд причин: объективные и субъективные, экономического и политического характера.
По их мнению, основная причина в том, что А. Н. Косыгину не удалось ослабить массированное давление Центра, продолжавшего держать в своих руках основные нити управления. Это относится к Госплану, Госснабу, Минфину и некоторым другим министерствам и ведомствам СССР, при попустительстве со стороны аппарата и руководства ЦК КПСС.
Во-вторых, многие предприятия и местные органы власти усмотрели в реформе возможности в первую очередь получить определенную выгоду для коллектива, отрасли, территории. Что получило свое выражение в стремлении любыми путями добиться для себя заниженного, легко выполнимого плана, а, следовательно, получить прибыль и полагающиеся за это материальные фонды.
В Центре выявили такие тенденции и, с ведома ЦК, ужесточили требования к качеству планирования. Были восстановлены ряд ограничений, введена практика дополнительных заданий предприятиям. Выполнить такие задания становилось все труднее, в основном потому, что министерства не полностью обсчитывали эти дополнительные задания материально-техническими ресурсами, делая упор на так называемые «внутренние резервы».
Таким образом, вновь возникли имевшие место и ранее противоречия между Центром и местами.
Часто трудности с выполнением плана возникали вследствие срыва предприятиями-смежниками поставок оборудования, материалов и комплектующих изделий. Хоздоговора на практике оказались нежизненными. Вновь пришлось вмешаться в эти отношения Госплану.