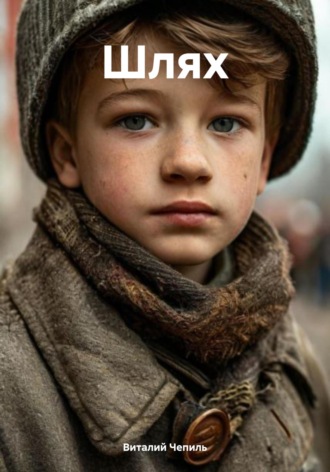
Шлях
Работал дядя тогда почему-то главным бухгалтером – вот оно, прохиндейство – уездного отдела народного образования или, сокращённо, УОНО. Находилось это учреждение неподалеку от нашей квартиры, а поскольку ни в нашем доме, ни во дворе почему-то не было туалета, мы вынужденно его постоянно навещали, благо, там туалет был. Скоро наши, вошедшие в привычку, визиты, приобрели нарицательное значение. Вместо того, чтобы сказать: "хочу в туалет", у нас говорили: "хочу в УОНО" или "сбегаю сейчас в УОНО". Эта сакраментальная фраза долго еще была в нашем лексиконе, даже тогда, когда мы уже в Сороках не жили.
Спустя некоторое время у меня родилась моя единственная сестричка Томочка. Ее появление в этом мире произвело на меня сильнейшее впечатление и я, чрезмерно растроганный, написал, в этой связи, первое своё стихотворение, которое, помню, начиналось словами: "По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел"… Это стихотворение мне очень понравилось, но гораздо позже я неожиданно обнаружил, что точно такими же словами начинается одно из произведений Лермонтова… До сих пор не могу понять: толи это совпавший результат творчества двух гениев, толи невольный, с моей стороны, бессовестный плагиат – скорее всего, второе: я использовал то, что прочитал раньше, но успел забыть об этом.
С рождением сестры – тоже, как и я, искусственницы, хлопот у мамы сильно прибавилось. Ей помогала баба Надя, которая приходила к нам пешком из Севериновки. После смерти деда туда был переведён фельдшером, вместе с семьёй, которая, в свою очередь, пополнилась Эдиком, мой дядя Левко, у которого баба, в общем-то и проживала.
Вместе с мамой они постоянно что-то готовили, чтобы угомонить плачущую сестру. Особенно мне запомнилась манная, на молоке, каша, да даже не каша, а то, что мне доставалось: слегка пригорелые на дне и стенках кастрюльки, ее остатки, которые я долго и самым тщательным образом выскребывал. Да, доложу вам – такой вкуснятины я не пробовал больше никогда в жизни. Вообще, похоже, люди тогда были какими-то особо выдающимися мастерами в кулинарии: разве найдешь сейчас хоть где-нибудь такие поразительные картофельные котлеты, не говоря уже о каше. Все стало хуже и всё не то…
Обретение мною сестры совпало по времени с другим знаменательным событием: моим вступлением в пионерскую организацию. В торжественной обстановке, на школьной линейке я и, как говорил А. Райкин, "все мои товарищи" дали торжественную клятву, получили горящие кумачом галстуки и наше звено тут же, не теряя времени, приступило к делу: мы взяли шефство над старой и убогой женщиной, родной теткой Сергея Лазо. Действовали не мудрствуя, строго по гайдаровской науке: бегали за продуктами в магазин, носили воду, пытались колоть дрова, опекали, одним словом, старушку, как могли.
Время моего сорокского пионерства – это, говоря уже словами не А. Райкина, а Э. Хемингуэя – "праздник, который всегда со мной"… Два раза в год, на 1 мая и 7 ноября меня одевали в удивительно свежую, тщательно отктюженную белоснежную рубашку и новые, тоже тщательно для таких случаев хранящиеся, штанишки и я, аккуратно подстриженный, весь новенький, в алом галстуке, маршировал вместе с дружиной, в радостном предвкушении чего-то необычного, на стадион, где проходила демонстрация. Подувал лёгкий, по-южному тёплый, ветер, развевались знамена, гремела музыка, приятное возбуждение переполняло грудь. Ну, разве это не праздник?
А регулярно проводимые в школе пионерские костры и линейки? А душераздирающие истории о подвигах пионеров-героев, которые читала нам где-нибудь под деревом, на берегу Днестра, наша пионервожатая, а мы, затаив дыхание, слушали их и дружно плакали – разве это не праздник?
Сейчас, когда общество борется с прошлым, у нас – я абсолютно убеждён в этом – вместе с сорняками бездушно выкорчевываются и действительно ценные плоды. Разве следовало уничтожить пионерское движение? Разве не оно научило нас уважению к другим народам, святым патриотическим принципам, привило нам чувство семьи единой? Родину, как и родителей, не выбирают, но, как и родителей, ее всегда нужно любить, независимо от того, как она называется: Российская Федерация или Советский Союз – а разве не этому нас учили в пионерии? И как понять моих учёных коллег, которые предлагают на место десятилетиями укоренявшегося пионерского движения внедрить совершенно непривычное для нас скаутство? Не правильней ли было бы очистить все нами достигнутое от устаревшего, наполнить его лучшими качествами нового, пусть, того же скаутства, и, совершенствуясь таким образом, идти дальше? Что за удивительная рассейская ментальность: разрушить храмы до основания, а затем – на пустом месте – воздвигать их имитации и радоваться при этом – как в случае с Храмом Христа Спасителя или "реконструкцией" нашего Костромского Кремля?..
То обстоятельство, что городок находится на реке, уже само по себе предполагает, что главным местом пребывания населяющей его детворы, как раз эта река и является. Однажды, бродя холодным пасмурным днём, по берегу, мы, с моими школьными друзьями, обнаружили лодку, отвязали ее и, не заметив в днище дыры, отчалили от берега. Лодка сразу стала тонуть, а мы – благо, было неглубоко – по горло оказались в холодной воде. Боясь идти в затрапезном виде домой, мы попытались разжечь костерок, чтобы обсушиться. Я сильно, при этом, промёрз и уже плохо помню, что было дальше, потому что добрел я домой или довели меня – с температурой 40. Я заболел тяжелейшим воспалением лёгких.
Невыносимая боль угнездилась в голове. Огромные камни, с грохотом перекатываясь, накрывали меня и тут же падали новые, не давая мне ни минуты передышки. Призывно тянул свои исхудавшие ручонки мой друг Володя Коршиков.
Я умирал. Умирал пионер и, стало быть – по-пионерски – с думой о своём гражданском предназначении. "Бабо, – шептал я обгорелыми губами, пытаясь укрыться от проклятых камней, – Вы знаете, на кого я выучусь?" "На кого?" – спрашивала та, прикладывая к моей пылающей голове холодную тряпку. "На кролика"… – отвечал я. А Володя хохотал в ответ и по-прежнему тянул руки.
Однажды я почувствовал на лице солнечный луч и открыл глаза. Стояло ясное утро, стучали в окно ветки кустов сирени, куда-то девался Коршиков, а вместо тяжёлых камней были кровать и подушка. Началось выздоровление: долгое и мучительное. Когда, через несколько дней, я вышел на веранду, то тут же, вдохнув свежего воздуха, упал в обморок. И повторялось это не раз.
Но и выздоровев, я продолжал чувствовать себя плохо: не хотелось ничего есть, даже остатков подгорелой манной каши, начался кашель, пришла какая-то непонятная слабость. Обеспокоенная мама показала меня врачам, повела на рентген, после которого долго и горько плакала: в правом лёгком у меня обнаружили туберкулёз. По тем временам, это был приговор.
К счастью, в больнице оказался старенький, работавший ещё при румынах, хирург, который предложил сделать мне операцию: перерезать на шее какую-то артерию, полностью отключив, тем самым, больное лёгкое от работы. По мере взросления, организм должен был, по существу, заменить его новым, здоровым и постепенно включить его деятельность. "Ничего, перерастёт," – заверил доктор. Я забыл, как называется эта операция.
Долго пришлось меня уговаривать, но победили корыстные, надо признаться, мотивы. Я давно любовался красующимся в магазине, ярко расписанным деревянным кинжалом. Взамен на моё согласие, мне был обещан не только он, но еще и маленький фильмоскоп и плитка шоколада. Интересно, мог ли кто устоять против этого на моём месте? Я лег на операционный стол.
Я хорошо представляю себе ощущения Ихтиандра, выброшенного из водной стихии, в фильме "Человек-амфибия". Представляю потому, что нечто подобное испытал и я: наличие тяжёлого, недвижимого груза с правой стороны груди, непривычно чёткое восприятие содержимого левой стороны и одышка. Правое лёгкое было отключено. Постепенно организм адаптировался, эти тягостные симптомы стали притупляться, а затем я совсем перестал их замечать. Прогноз опытного старого хирурга оказался верен. Как память о прошлом, у меня до сих пор остался шрам на шее и начавшая формироваться после операции лёгкая кривошея. Вкупе с присущими мне от рождения мнительностью и застенчивостью, она, чем старше я становился, все более отягощала моё существование, порождая чувство ущербности и всякого рода комплексы. Постоянная борьба с ними заняла все мои последующие годы и продолжается, пожалуй, и сейчас. Обо мне и в обществе, и в семье, давно уже упрочилось мнение о том, что я – весёлый и остроумный юморист, лёгкий и очень контактный человек, свой, одним словом, – и без всяких заморочек – парень. Я, пожалуй, и сам уже привык к такому имиджу и мне легко стало вести себя соответствующим образом. Но, тем не менее, только я знаю, как тягостно и трудно мне общаться с людьми, как стесняюсь я войти к студентам, как робок я с женщинами. Впрочем, – да, да – это, конечно, тоже от дяди Левка…
Можно ли было потом устранить эту кривошею? Конечно, и мне постоянно это предлагали. Но я был уже стреляный воробей и на приманки, вроде деревянных кинжалов, не давался. Видимо, напрасно.
Хотя прогноз сорокского врача подтвердился и я полностью избавился от недуга, но случилось это ещё очень и очень нескоро.
А пока, после операции, меня не покидала субфебрильная температура, не исчезали на лёгком туберкулёзные очаги и лечившие меня врачи посоветовали мне сменить влажный сорокский климат на другой, более сухой и вообще поменять обстановку. К этому времени я окончил третий класс.
Тётя Феня как раз переехала на работу, в должности акушерки, на находящуюся километрах в восьмидесяти от Одессы, небольшую железнодорожную станцию Весёлый Кут. К ней и решили меня отправить на нашем семейном совете, который прошел под председательством бабы. Тётя с радостью согласилась меня принять и, таким образом – как принято говорить – в один прекрасный день пришёл дядя Левко, забрал меня и отвёз к ней. Молдавский городок Сороки – место моих первых жизненных достижений и сокрушительных поражений – навсегда ушёл в мир воспоминаний.
На станции Флорешты, от которой нам предстояло добираться к тёте, я впервые в жизни увидел железнодорожные рельсы и был так поражён этим изобретением человечества, что боялся ступить на них ногой, чтобы случайно не обвалить их. Вскоре вслед за мной, к тёте приехала и баба и мы зажили втроём, дружным, направленным на моё выздоровление, коллективом. Для усиления эффективности процесса достижения этой цели, было решено в течение целого года не отправлять меня в школу.
В это время небольшая степная деревенька Весёлый Кут представляла из себя вереницу расположенных на одной, достаточно протяженной улочке, чистеньких, утопающих в зелени вишневых садов, домишек. Эти домики, как и сама улочка, жались к двухэтажному зданию, которое и было железнодорожной станцией. На первом этаже располагались: небольшой зал ожидания, касса по продаже билетов и несколько служебных помещений, на втором: комнаты, в которых жили железнодорожный кассир, начальник станции и другие служащие, в том числе и моя тётя. Ее комната вмещала в себя плиту, стол, пару стульев, кровать и диван, на которых спали баба и тётя, а также приспособление из досок на кирпичах, на котором, на уютной перьевой перине, спал я. Буквально под окнами мчались, не останавливаясь, скорые поезда, на несколько минут задерживались пассажирские, круглосуточно тащили свой груз товарные. Здание тряслось от стука колёс, а в жилых комнатах стоял постоянный грохот и пахло паровозной гарью. Но человек, как известно, привыкает ко всему, скоро к станционной суматохе привык и я.
В деревеньке тётя пользовалась уже большим уважением и авторитетом. Многие из населяющих ее женщин успели стать тетиными пациентками, а многие к этому готовились. Не удивительно, что узнав о причине моего приезда, охочие до слезы хохлушки тотчас приняли в моей судьбе самое живое участие. Прямо домой тете приносили – "для Вильки," – ведрами, огромные спелые вишни, банками – янтарный душистый мёд, мокрое, как бы покрытое каплями росы, домашнее сливочное масло.
Разве можно было воздержаться от всего этого даже такому доходяге как я? В свою очередь, всю свою мизерную, в общем-то, зарплату тётя тратила на меня. Мне покупали любимую мною халву, печенье, из масла, какао и мёда варили удивительно вкусный и питательный шоколад, на столе не переводились фрукты, овощи, компот. Часто готовились вареники с вишнями, которые я ел, макая их в тарелку с мёдом. Все это, в сочетании с сухим степным воздухом, постоянными прогулками с тётей по окрестностям, достаточно скоро принесло свои результаты: я порозовел, округлились щёки, нормализовалась температура, я стал, одним словом, постепенно превращаться в полного жизненной энергии, здорового хлопчика.
Напротив станционного дома, по другую сторону железнодорожного полотна, неподалеку от штабелей рассохшихся под жаркими лучами солнца бревен и остро пахнущих смолистым ароматом шпал, стояла больница с тетиным родильным отделением. Находясь везде и всегда при тете, я часто бывал и там и, конечно, очень скоро стал среди обслуживающего персонала своим человеком. Бывало, в случаях, когда назревали роды и тётя уходила на ночь, я даже спал на кушетке в комнатке рядом с родильным отделением. Просыпаясь под крики рожениц, я спросонок интересовался, выказывая недюжинные акушерские познания, у снующих санитарок: "Что, воды уже отошли?" "Нет еще!" – на полном серьёзе, машинально отчитывались они и бежали дальше.
Нередко случалось, что возникала необходимость поспособствовать прибавлению отечественного населения где-нибудь в семье путевого обходчика, живущего на небольшом глухом полустаночке, километрах в десяти-пятнадцати от станции. Вызовы такого рода поступали, чаще всего, по вечерам.
На станции специально останавливали, пусть даже и скорые, поезда, мы с тётей торжественно поднимались в вагон, а потом, через некоторое время, к тревожному удивлению пассажиров, состав тормозил в безлюдной глухой ночи и мы высаживались, встречаемые тусклым светом фонаря непосредственного виновника всего произошедшего.
Пока тётя трудилась, я, боясь заблудиться и потому стараясь не потерять из виду светящиеся окна огороженного огромными жёлтыми подсолнухами домика, исследовал, ступая по густой траве, заросли посадки: поросшей высокими деревьями и густыми кустами, широкой полосы, предназначенной ограждать дорогу от снежных заносов. Удивлённо пересвистывались, потревоженные моим присутствием, птицы, сонно шелестела листва, где-то вдали, чуть слышно, тарахтел трактор, а рядом совершалось великое таинство: появлялась новая жизнь. И творили его, это таинство, мы с тётей.
А потом поезда вели себя уже описанным выше образом, только в обратном порядке и мы возвращались домой, к засыпанной и зевающей бабе.
Став за сорокский период уже, вроде бы, городским человеком, я, поначалу, занимаясь медицинской практикой, трудно сходился со своими станционными сверстниками. Даже – если быть точным – очень трудно.
На валявшихся, в изобилии, деревянных шпалах, а то и в зале ожидания, практически постоянно била баклуши группа оборванных, как уверенно называла их баба, бандитов, которыми, безусловно, верховодил худенький, горбатый, закованный как в боевые доспехи – а потому казавшийся квадратным – корсет, наглый и язвительный Когтейчик. Так прозвали его, очевидно, по аналогии с Кощеем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

