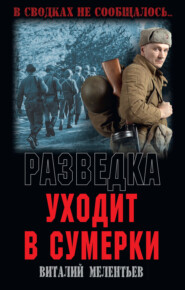По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Варшавка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что так? Брезгуешь?
– Нет. Просто на халтурку сроду не пил, а отплатить нечем – запаса собрать не догадался.
Голые мужики переглянулись, и другой, чем-то похожий на Костю, такой же поджарый, со свежей розочкой-шрамом возле ключицы, усмехнулся:
– Когда приглашают, отдачи не требуют.
– Ну, если так, – в лад усмехнулся и в тон ответил Костя, – так я, обратно, не против. Только мне поменьше. Я ведь не парился.
Санитар нырнул под лавку и подал еще одну, помятую кружку. Круглолицый плеснул в нее из фляжки, поджарый еще раз осмотрел Костю и осведомился:
– Не уважаешь, значит, парную?
– Не то что не уважаю, а просто не привык.
– Выходит, в ваших местах не парятся? С юга, что ли?
– Оттуда…
– Казак, что ли?
– Казак.
– Ну, верно… В ваших местах настоящей бани сроду и не видывали. Это я понимаю.
Все чокнулись, выпили не спеша, покряхтывая и, сглатывая горькую слюну, потянулись к закуске. Костя не тянулся. Слишком хорошо он знал, что такое бойцовская пайка, и, досадуя на себя – приперся налегке, даже без сидора, с одной кирзовой, еще довоенной сержантской сумкой! – скромно отодвинулся в сторонку, стараясь почаще сглатывать, чтоб выпитое покрылось пленочкой и устоялось.
Поджарый опять усмехнулся:
– Ты, казак, не на передовой, закусывай смело. Это у нас вроде доппайка.
Костя выдвинулся и осторожно, можно даже сказать деликатно, взял пластинку невкусного, должно быть американского, сала и кусочек хлеба. Голые мужики переглянулись, и поджарый осведомился:
– Ты с верховых или понизовых, станишник?
– Из Таганрога…
– Тю-у… Какой же ты станишник?! Ты ж даже не иногородний. Так… слободской…
Костя незаметно для себя подобрался, и острые, темные его глаза недобро сверкнули – свое казачье происхождение он отстаивать умел.
– Тю на тю, вспоминай кутью… Раз ты все знаешь, так дед у меня из пластунов, а сами мы – сальские.
Когда Костя упомянул кутью, розочка-шрам у поджарого побелела, но потом он сразу отошел и опять усмехнулся:
– Вас понял, перешел на прием.
– Ты что ж, артиллерист?
Теперь они смотрели друг на друга почти влюбленно: оба оказались понятливыми, военную жизнь знающими. Только связист да артиллерист, и то не всякий, поймет эту присказку: вас понял… Так говорят при радиопереговорах.
Санитар, хоть и подобревший, все еще неласково смотрел на Костю и потому спросил не у него, а у поджарого:
– Слышь, Иван. А это что ж за пластуны? Слыхать слыхал, а… в толк не возьму.
– Видишь, какое тут дело, – отложил закуску поджарый. – В старое время казак должен был идти в войско на своей лошади, при своей амуниции и даже частично при своем оружии. За то им и наделы давались, чтоб справлялись. А если у казака баба сынов рожает? Ну, двух соберет, ну трех… А если их пятеро али семеро? Вот младшие или поздно к станице приписанные, бедные уходили в пластуны, казачью пехоту. Добудет себе хабар, по-теперешнему трофеи, справит коня с амуницией – может и в строевые казаки перейти. А вот не добудет, так домой пластуну лучше не возвращаться – все равно в батраки идти. У отца на всех земли не хватит. Вот те пластуны и уходили. Кто в новые казачьи войска приписывались – в забайкальские, уссурийские, в среднеазиатские. А другие в города: в Царицын, в Воронеж, в Таганрог… Ну, конечно, отписанные со своими хуторами-станицами связи не теряли – родина…
Санитар покивал – такое он понимал. Безземелье и у него в деревне выгоняло младших на сторону. Внутренне он примирился с Костей и потому спросил уже без неодобрения, но еще сурово, словно надеялся найти в нем нечто оправдывающее его неприязнь;
– А на фронте ты, милый человек, чем занимаешься?
Костя хорошо понял движение санитаровой души и потому нарочито беспечно ответил:
– В снайперах, папаша, шастаю. Курочка по зернышку, а мы – по фрицишке.
Санитар неожиданно встрепенулся:
– Ты не с батальона Басина?
– Из него самого.
– Слушай, так тебе не Жилин ли фамилия?
– Н-ну… Жилин, – настороженно ответил Костя.
– Так ты ж, выходит, знаменитый человек! – восхитился санитар, но в голосе у него звучали и сожаление – не слишком Костя достоин восхищения, и крохотное недоверие-надежда: может, все-таки он врет?
Голые мужики поерзали – дело оборачивалось интересно. Костя помолчал, осмысливая: розыгрыш или нет? Но тронутое морщинами лицо санитара было бесхитростно, да и глаза – серые, пристальные, – округлясь, излучали восхищение.
– Это ж когда я в знаменитости… пронырнул?
– Ты что ж, газет не читаешь? Или прикидываешься? – В глазах санитара опять мелькнуло недоверие, сменившееся острым любопытством: как вывернется этот чернец? – Может, ты неграмотный?
Костя растерялся. Мужики переглянулись, лица у них стали непроницаемо отчужденными, и Жилин почувствовал себя очень плохо, хотя бы потому, что все они – голые, а он, как дурак, в новеньком, шелковистом, нежно-шершавом на слежавшихся сгибах, пахучем белье.
– Хватит баланду травить. Газеты читаю, но про себя не читал.
Нет, он сразу стал совсем не тем, что полминуты назад. В нем как-то мгновенно прорезался жесткий, несговорчивый отчаюга, который умеет, несмотря ни на что, гнуть свою линию. И все почувствовали это. И именно это, прорезавшееся, сразу убедило санитара.
– Надо же… о себе – не читал… Ну, погодь, погодь, я тебе сейчас притащу.
Он бросился было к дверям, но вспомнил и полез в карман. Достал кисет, а из него выпростал аккуратно сложенную фронтовую – в четыре странички – газету, развернул и передал Жилину.
– Эта, понимаешь, на курево хороша. Наша, дивизионная, груба.
Костя, внутренне замирая, прошелся глазами по заголовкам и перевел дыхание. Большая статья называлась: «Массированное применение снайперов». Писал какой-то старший лейтенант В. Голубев. Костю смутило и то, что снайперов, оказывается, применяют и что пишет об этом совершенно незнакомый ему человек.
– Про тебя? – заинтересованно осведомился Иван.
– Нет. Просто на халтурку сроду не пил, а отплатить нечем – запаса собрать не догадался.
Голые мужики переглянулись, и другой, чем-то похожий на Костю, такой же поджарый, со свежей розочкой-шрамом возле ключицы, усмехнулся:
– Когда приглашают, отдачи не требуют.
– Ну, если так, – в лад усмехнулся и в тон ответил Костя, – так я, обратно, не против. Только мне поменьше. Я ведь не парился.
Санитар нырнул под лавку и подал еще одну, помятую кружку. Круглолицый плеснул в нее из фляжки, поджарый еще раз осмотрел Костю и осведомился:
– Не уважаешь, значит, парную?
– Не то что не уважаю, а просто не привык.
– Выходит, в ваших местах не парятся? С юга, что ли?
– Оттуда…
– Казак, что ли?
– Казак.
– Ну, верно… В ваших местах настоящей бани сроду и не видывали. Это я понимаю.
Все чокнулись, выпили не спеша, покряхтывая и, сглатывая горькую слюну, потянулись к закуске. Костя не тянулся. Слишком хорошо он знал, что такое бойцовская пайка, и, досадуя на себя – приперся налегке, даже без сидора, с одной кирзовой, еще довоенной сержантской сумкой! – скромно отодвинулся в сторонку, стараясь почаще сглатывать, чтоб выпитое покрылось пленочкой и устоялось.
Поджарый опять усмехнулся:
– Ты, казак, не на передовой, закусывай смело. Это у нас вроде доппайка.
Костя выдвинулся и осторожно, можно даже сказать деликатно, взял пластинку невкусного, должно быть американского, сала и кусочек хлеба. Голые мужики переглянулись, и поджарый осведомился:
– Ты с верховых или понизовых, станишник?
– Из Таганрога…
– Тю-у… Какой же ты станишник?! Ты ж даже не иногородний. Так… слободской…
Костя незаметно для себя подобрался, и острые, темные его глаза недобро сверкнули – свое казачье происхождение он отстаивать умел.
– Тю на тю, вспоминай кутью… Раз ты все знаешь, так дед у меня из пластунов, а сами мы – сальские.
Когда Костя упомянул кутью, розочка-шрам у поджарого побелела, но потом он сразу отошел и опять усмехнулся:
– Вас понял, перешел на прием.
– Ты что ж, артиллерист?
Теперь они смотрели друг на друга почти влюбленно: оба оказались понятливыми, военную жизнь знающими. Только связист да артиллерист, и то не всякий, поймет эту присказку: вас понял… Так говорят при радиопереговорах.
Санитар, хоть и подобревший, все еще неласково смотрел на Костю и потому спросил не у него, а у поджарого:
– Слышь, Иван. А это что ж за пластуны? Слыхать слыхал, а… в толк не возьму.
– Видишь, какое тут дело, – отложил закуску поджарый. – В старое время казак должен был идти в войско на своей лошади, при своей амуниции и даже частично при своем оружии. За то им и наделы давались, чтоб справлялись. А если у казака баба сынов рожает? Ну, двух соберет, ну трех… А если их пятеро али семеро? Вот младшие или поздно к станице приписанные, бедные уходили в пластуны, казачью пехоту. Добудет себе хабар, по-теперешнему трофеи, справит коня с амуницией – может и в строевые казаки перейти. А вот не добудет, так домой пластуну лучше не возвращаться – все равно в батраки идти. У отца на всех земли не хватит. Вот те пластуны и уходили. Кто в новые казачьи войска приписывались – в забайкальские, уссурийские, в среднеазиатские. А другие в города: в Царицын, в Воронеж, в Таганрог… Ну, конечно, отписанные со своими хуторами-станицами связи не теряли – родина…
Санитар покивал – такое он понимал. Безземелье и у него в деревне выгоняло младших на сторону. Внутренне он примирился с Костей и потому спросил уже без неодобрения, но еще сурово, словно надеялся найти в нем нечто оправдывающее его неприязнь;
– А на фронте ты, милый человек, чем занимаешься?
Костя хорошо понял движение санитаровой души и потому нарочито беспечно ответил:
– В снайперах, папаша, шастаю. Курочка по зернышку, а мы – по фрицишке.
Санитар неожиданно встрепенулся:
– Ты не с батальона Басина?
– Из него самого.
– Слушай, так тебе не Жилин ли фамилия?
– Н-ну… Жилин, – настороженно ответил Костя.
– Так ты ж, выходит, знаменитый человек! – восхитился санитар, но в голосе у него звучали и сожаление – не слишком Костя достоин восхищения, и крохотное недоверие-надежда: может, все-таки он врет?
Голые мужики поерзали – дело оборачивалось интересно. Костя помолчал, осмысливая: розыгрыш или нет? Но тронутое морщинами лицо санитара было бесхитростно, да и глаза – серые, пристальные, – округлясь, излучали восхищение.
– Это ж когда я в знаменитости… пронырнул?
– Ты что ж, газет не читаешь? Или прикидываешься? – В глазах санитара опять мелькнуло недоверие, сменившееся острым любопытством: как вывернется этот чернец? – Может, ты неграмотный?
Костя растерялся. Мужики переглянулись, лица у них стали непроницаемо отчужденными, и Жилин почувствовал себя очень плохо, хотя бы потому, что все они – голые, а он, как дурак, в новеньком, шелковистом, нежно-шершавом на слежавшихся сгибах, пахучем белье.
– Хватит баланду травить. Газеты читаю, но про себя не читал.
Нет, он сразу стал совсем не тем, что полминуты назад. В нем как-то мгновенно прорезался жесткий, несговорчивый отчаюга, который умеет, несмотря ни на что, гнуть свою линию. И все почувствовали это. И именно это, прорезавшееся, сразу убедило санитара.
– Надо же… о себе – не читал… Ну, погодь, погодь, я тебе сейчас притащу.
Он бросился было к дверям, но вспомнил и полез в карман. Достал кисет, а из него выпростал аккуратно сложенную фронтовую – в четыре странички – газету, развернул и передал Жилину.
– Эта, понимаешь, на курево хороша. Наша, дивизионная, груба.
Костя, внутренне замирая, прошелся глазами по заголовкам и перевел дыхание. Большая статья называлась: «Массированное применение снайперов». Писал какой-то старший лейтенант В. Голубев. Костю смутило и то, что снайперов, оказывается, применяют и что пишет об этом совершенно незнакомый ему человек.
– Про тебя? – заинтересованно осведомился Иван.