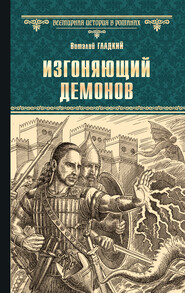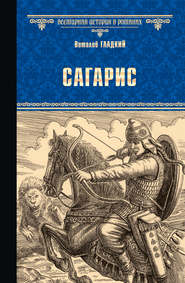По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В архивах не значится
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Журавлев долго всматривался в фотографии, недовольно хмуря кустистые брови. Наконец отложил лупу и задумался, поглаживая длинными пальцами гладко выбритые щеки.
– М-да… Талант… – сказал он с ноткой ревности в голосе.
Еще раз просмотрев фотографии, Журавлев вернул их Савину.
– Редкий талант, – подтвердил старый гравер свой вывод. – И почерк своеобразный. Но сказать определенно, чья это работа, не могу.
Заметив разочарование на лице Савина, он сконфуженно прокашлялся:
– Кх, кх… И все-таки, думаю, это кто-то из троих – Григориади, Лоскутов и Меерзон. Больше некому. Старая гвардия. Из молодых, возможно, Пасечник… Впрочем, нет! Не та школа. Так красиво сейчас не работают. Что поделаешь – план, деньги, давай-давай, жми-дави. Машинка под рукой, включил – вжик, вжик – и готово. А здесь сработано резцом, да не простым, – алмазным, с подчисткой. Каждый штрих выверен…
В тот же вечер Савин вылетел в Москву.
Глава 11
Огонь в очаге постепенно разгорался. В избушке было жарко, и дверь отворили. Снаружи по-весеннему ярко сияло солнце, кое-где пробивалась первая зелень, а внутри царил полумрак.
Связанный по рукам и ногам, до пояса оголенный, граф Воронцов-Вельяминов лежал на полатях. У стола сидели Кукольников и Деревянов, а Христоня время от времени подбрасывал в очаг сухие поленья.
Не успел уйти Владимир с добытым золотом, нашел все-таки его тайник Кукольников.
Граф сговорился с якутами бежать, как только сойдет снег – чтобы скрыть следы. Но жандармский ротмистр не дремал и, устроив засаду в скалах, выследил всех троих.
– Как же так, господин подполковник? – спрашивал Кукольников. – Зачем вы нас так долго за нос водили? Где же ваша дворянская честь? И наконец, куда подевалась ваша христианская мораль? Разве делиться с ближним не одна из христианских заповедей?
Он небрежно похлопал ладонью по мешку с золотом, который лежал на столе.
– Ну-ну, я не настаиваю на подобной формулировке…
Кукольников с иронией сделал полупоклон в сторону графа, который пробормотал «подонки» и отвернулся к стене.
– Допустим, мы с вами не столь близки, чтобы рассчитывать на ваше великодушие, – сказал Кукольников. – Но поскольку мы попали в довольно затруднительное положение, как вам это известно, то имеем полное право рассчитывать на определенную компенсацию за заслуги перед Отечеством и монархией. Не так ли?
Ротмистр впился своим змеиным взглядом в бесстрастное лицо графа.
– Молчите… – процедил Кукольников сквозь зубы.
Ротмистр стал мрачнее грозовой тучи.
– Тем хуже… для вас, – сказал он с угрозой. – Думаю, что мы все-таки договоримся и вы нам подскажете, где находится ваш Клондайк, так как здесь, – он еще раз похлопал ладонью по мешку с золотом, – для всей нашей компании явно маловато. Я жду, граф. Не испытывайте мое терпение.
– Вы негодяй, ротмистр.
Владимир с презрением посмотрел на Кукольникова.
– Впрочем, не буду метать бисер перед свиньями, – сказал он с нажимом. – Компенсацию за ваши… «подвиги» во имя монархических идеалов вы, естественно, получите. Только свинец чересчур благородный металл для вас, уж поверьте мне. А вот пеньковая веревка – в самый раз.
– Но-но, ты, мать твою!.. – выматерился, зверея, Деревянов. – Поговори у меня, сволочь. Я с тебя шкуру сдеру.
– Успокойтесь, поручик, – миролюбиво сказал Кукольников. – Уважьте графское достоинство. Все-таки голубая дворянская кровь… – Он хищно осклабился. – Господина подполковника можно понять. Не так ли, граф? Думаю, что именно так. Поэтому во избежание недоразумений и насилия (поймите меня правильно), вы нам подскажете, где находится золотая жила. Мы, в свою очередь, гарантируем вам жизнь… и определенную долю в добыче. В этом я ручаюсь словом русского офицера. Условия, я считаю, вполне приемлемы.
– С каких это пор ищейки Жандармского корпуса стали считать себя русскими офицерами? – с издевкой спросил граф. – Право, смешно – слово жандарма…
– Значит, мирные переговоры закончились полным фиаско… Плохо. Для вас плохо, господин подполковник. Христоня! Положи-ка в печку шомпола. Придется вас, милостивый сударь, слегка подогреть, дабы освежить память и сделать более покладистым. Уж не обессудьте…
Пытка продолжалась не менее получаса.
Граф скрипел зубами от боли, глухо стонал, но на вопросы Кукольникова упрямо не хотел отвечать. В конце концов он потерял сознание.
В избушке отвратительно пахло паленым, и Кукольников вместе с Деревяновым вышли наружу.
– Христоня! Освежи графа, – приказал Деревянов, закуривая.
Поручик готов был лично разрезать графа на кусочки. Он ненавидел всех, кто был умнее его. А в особенности Деревянов не любил тех, кто имел большой чин, что у армейских считается признаком незаурядного ума или серьезных связей в верхах, что почти одно и то же.
Деревянов всегда стремился к власти и чинам, но как-то так получалось, что он успевал только к шапошному разбору. Даже война с германцами застала его в диком захолустье. Ах, как он мечтал попасть на фронт, чтобы заработать звание георгиевского кавалера и повышение по службе! Но все рапорты, в которых поручик просил отправить его в действующую армию, так и остались лежать под сукном до самой революции. И не потому, что он по каким-то параметрам не подходил командирам маршевых батальонов, формировавшихся на северных окраинах России. Просто Деревянова не любило и не жаловало начальство. Он всегда и со всеми был на ножах. Поэтому поручика и отправили не на фронт, а в самую, что ни есть, глухомань, где он должен был выполнять чисто гражданские обязанности. Начальство знало, на какую мозоль ему наступить, чтобы поручику было больней…
Но при всем том Деревянову никак нельзя было отказать в храбрости. Что он и доказал не раз, когда примкнул к Белому движению. Правда, потом он об этом иногда сожалел, но дело было сделано, и отступить он уже не мог.
Его командирами оказались те же самые начальники, что изгалялись над ним до революции. Однако теперь поручик, уже не связанный присягой, мог наплевать на их указания и команды. Что он и сделал, сколотив свой личный отряд, от которого за версту несло анархией.
К нему шли те, которым не было места среди офицеров, готовых, не задумываясь, сложить головы за монархические идеалы. По большинству его подчиненным давно веревка плакала; многие из них были патологическими убийцами, которые только прикрывались лозунгами Белого движения.
Нередко отряд Деревянова занимался откровенным грабежом. Но этому не мог помешать даже Кукольников, которого поручику навязало штабное начальство (ротмистр кроме своих непосредственных функций был в отряде чем-то наподобие большевистского комиссара). И поручик, и бывший жандарм знали точно, что их подчиненные, если не дать им возможности проявить свои злодейские натуры, тут же разбегутся. Поэтому и тот, и другой смотрели сквозь пальцы на бесчинства казаков и офицеров отряда. Так обычно поступали начальники в древние времена, отдавая свои воинам захваченные города на разграбление.
– Крепкий орешек, – сплюнул Деревянов в досаде. – Держится за эту жилу, как черт за грешную душу. Не могу понять, почему он не согласен на наши условия?
– Все очень просто, поручик…
Кукольников присел на чурбан у входа.
– Граф умный и мужественный человек, – сказал он, скверно ухмыляясь. – Он прекрасно понимает, что нужен нам до тех пор, пока мы не доберемся до золотой жилы. Вот и весь сказ.
– Ничего, скажет, уж мы постараемся…
– Ошибаетесь, господин поручик. Не скажет. Были уже на моей памяти такие твердокаменные. Правда, большевички, краснопузые, борцы за идею. Этот вроде должен быть послабее, голубая кровь, но поди ж ты…
– Так что же тогда делать?
– Все, что было до этого, – прелюдия к основным событиям, поручик.
– Как это?
– Очень просто. Жаль, что вы не изучали психологию. Занятная и полезная наука, смею вас уверить. Сейчас мы сыграем на самой слабой струне подобных твердокаменных типов – острому сочувствию к страданиям других. Тем более, когда страдать по его вине должен близкий ему человек, товарищ…
Макара Медова ввели в избушку, когда Христоня с помощью нескольких ведер воды привел Владимира в чувство.
– Ладимир! – в страхе закричал якут, увидев вздувшуюся и почерневшую от ожогов спину графа.
– М-да… Талант… – сказал он с ноткой ревности в голосе.
Еще раз просмотрев фотографии, Журавлев вернул их Савину.
– Редкий талант, – подтвердил старый гравер свой вывод. – И почерк своеобразный. Но сказать определенно, чья это работа, не могу.
Заметив разочарование на лице Савина, он сконфуженно прокашлялся:
– Кх, кх… И все-таки, думаю, это кто-то из троих – Григориади, Лоскутов и Меерзон. Больше некому. Старая гвардия. Из молодых, возможно, Пасечник… Впрочем, нет! Не та школа. Так красиво сейчас не работают. Что поделаешь – план, деньги, давай-давай, жми-дави. Машинка под рукой, включил – вжик, вжик – и готово. А здесь сработано резцом, да не простым, – алмазным, с подчисткой. Каждый штрих выверен…
В тот же вечер Савин вылетел в Москву.
Глава 11
Огонь в очаге постепенно разгорался. В избушке было жарко, и дверь отворили. Снаружи по-весеннему ярко сияло солнце, кое-где пробивалась первая зелень, а внутри царил полумрак.
Связанный по рукам и ногам, до пояса оголенный, граф Воронцов-Вельяминов лежал на полатях. У стола сидели Кукольников и Деревянов, а Христоня время от времени подбрасывал в очаг сухие поленья.
Не успел уйти Владимир с добытым золотом, нашел все-таки его тайник Кукольников.
Граф сговорился с якутами бежать, как только сойдет снег – чтобы скрыть следы. Но жандармский ротмистр не дремал и, устроив засаду в скалах, выследил всех троих.
– Как же так, господин подполковник? – спрашивал Кукольников. – Зачем вы нас так долго за нос водили? Где же ваша дворянская честь? И наконец, куда подевалась ваша христианская мораль? Разве делиться с ближним не одна из христианских заповедей?
Он небрежно похлопал ладонью по мешку с золотом, который лежал на столе.
– Ну-ну, я не настаиваю на подобной формулировке…
Кукольников с иронией сделал полупоклон в сторону графа, который пробормотал «подонки» и отвернулся к стене.
– Допустим, мы с вами не столь близки, чтобы рассчитывать на ваше великодушие, – сказал Кукольников. – Но поскольку мы попали в довольно затруднительное положение, как вам это известно, то имеем полное право рассчитывать на определенную компенсацию за заслуги перед Отечеством и монархией. Не так ли?
Ротмистр впился своим змеиным взглядом в бесстрастное лицо графа.
– Молчите… – процедил Кукольников сквозь зубы.
Ротмистр стал мрачнее грозовой тучи.
– Тем хуже… для вас, – сказал он с угрозой. – Думаю, что мы все-таки договоримся и вы нам подскажете, где находится ваш Клондайк, так как здесь, – он еще раз похлопал ладонью по мешку с золотом, – для всей нашей компании явно маловато. Я жду, граф. Не испытывайте мое терпение.
– Вы негодяй, ротмистр.
Владимир с презрением посмотрел на Кукольникова.
– Впрочем, не буду метать бисер перед свиньями, – сказал он с нажимом. – Компенсацию за ваши… «подвиги» во имя монархических идеалов вы, естественно, получите. Только свинец чересчур благородный металл для вас, уж поверьте мне. А вот пеньковая веревка – в самый раз.
– Но-но, ты, мать твою!.. – выматерился, зверея, Деревянов. – Поговори у меня, сволочь. Я с тебя шкуру сдеру.
– Успокойтесь, поручик, – миролюбиво сказал Кукольников. – Уважьте графское достоинство. Все-таки голубая дворянская кровь… – Он хищно осклабился. – Господина подполковника можно понять. Не так ли, граф? Думаю, что именно так. Поэтому во избежание недоразумений и насилия (поймите меня правильно), вы нам подскажете, где находится золотая жила. Мы, в свою очередь, гарантируем вам жизнь… и определенную долю в добыче. В этом я ручаюсь словом русского офицера. Условия, я считаю, вполне приемлемы.
– С каких это пор ищейки Жандармского корпуса стали считать себя русскими офицерами? – с издевкой спросил граф. – Право, смешно – слово жандарма…
– Значит, мирные переговоры закончились полным фиаско… Плохо. Для вас плохо, господин подполковник. Христоня! Положи-ка в печку шомпола. Придется вас, милостивый сударь, слегка подогреть, дабы освежить память и сделать более покладистым. Уж не обессудьте…
Пытка продолжалась не менее получаса.
Граф скрипел зубами от боли, глухо стонал, но на вопросы Кукольникова упрямо не хотел отвечать. В конце концов он потерял сознание.
В избушке отвратительно пахло паленым, и Кукольников вместе с Деревяновым вышли наружу.
– Христоня! Освежи графа, – приказал Деревянов, закуривая.
Поручик готов был лично разрезать графа на кусочки. Он ненавидел всех, кто был умнее его. А в особенности Деревянов не любил тех, кто имел большой чин, что у армейских считается признаком незаурядного ума или серьезных связей в верхах, что почти одно и то же.
Деревянов всегда стремился к власти и чинам, но как-то так получалось, что он успевал только к шапошному разбору. Даже война с германцами застала его в диком захолустье. Ах, как он мечтал попасть на фронт, чтобы заработать звание георгиевского кавалера и повышение по службе! Но все рапорты, в которых поручик просил отправить его в действующую армию, так и остались лежать под сукном до самой революции. И не потому, что он по каким-то параметрам не подходил командирам маршевых батальонов, формировавшихся на северных окраинах России. Просто Деревянова не любило и не жаловало начальство. Он всегда и со всеми был на ножах. Поэтому поручика и отправили не на фронт, а в самую, что ни есть, глухомань, где он должен был выполнять чисто гражданские обязанности. Начальство знало, на какую мозоль ему наступить, чтобы поручику было больней…
Но при всем том Деревянову никак нельзя было отказать в храбрости. Что он и доказал не раз, когда примкнул к Белому движению. Правда, потом он об этом иногда сожалел, но дело было сделано, и отступить он уже не мог.
Его командирами оказались те же самые начальники, что изгалялись над ним до революции. Однако теперь поручик, уже не связанный присягой, мог наплевать на их указания и команды. Что он и сделал, сколотив свой личный отряд, от которого за версту несло анархией.
К нему шли те, которым не было места среди офицеров, готовых, не задумываясь, сложить головы за монархические идеалы. По большинству его подчиненным давно веревка плакала; многие из них были патологическими убийцами, которые только прикрывались лозунгами Белого движения.
Нередко отряд Деревянова занимался откровенным грабежом. Но этому не мог помешать даже Кукольников, которого поручику навязало штабное начальство (ротмистр кроме своих непосредственных функций был в отряде чем-то наподобие большевистского комиссара). И поручик, и бывший жандарм знали точно, что их подчиненные, если не дать им возможности проявить свои злодейские натуры, тут же разбегутся. Поэтому и тот, и другой смотрели сквозь пальцы на бесчинства казаков и офицеров отряда. Так обычно поступали начальники в древние времена, отдавая свои воинам захваченные города на разграбление.
– Крепкий орешек, – сплюнул Деревянов в досаде. – Держится за эту жилу, как черт за грешную душу. Не могу понять, почему он не согласен на наши условия?
– Все очень просто, поручик…
Кукольников присел на чурбан у входа.
– Граф умный и мужественный человек, – сказал он, скверно ухмыляясь. – Он прекрасно понимает, что нужен нам до тех пор, пока мы не доберемся до золотой жилы. Вот и весь сказ.
– Ничего, скажет, уж мы постараемся…
– Ошибаетесь, господин поручик. Не скажет. Были уже на моей памяти такие твердокаменные. Правда, большевички, краснопузые, борцы за идею. Этот вроде должен быть послабее, голубая кровь, но поди ж ты…
– Так что же тогда делать?
– Все, что было до этого, – прелюдия к основным событиям, поручик.
– Как это?
– Очень просто. Жаль, что вы не изучали психологию. Занятная и полезная наука, смею вас уверить. Сейчас мы сыграем на самой слабой струне подобных твердокаменных типов – острому сочувствию к страданиям других. Тем более, когда страдать по его вине должен близкий ему человек, товарищ…
Макара Медова ввели в избушку, когда Христоня с помощью нескольких ведер воды привел Владимира в чувство.
– Ладимир! – в страхе закричал якут, увидев вздувшуюся и почерневшую от ожогов спину графа.