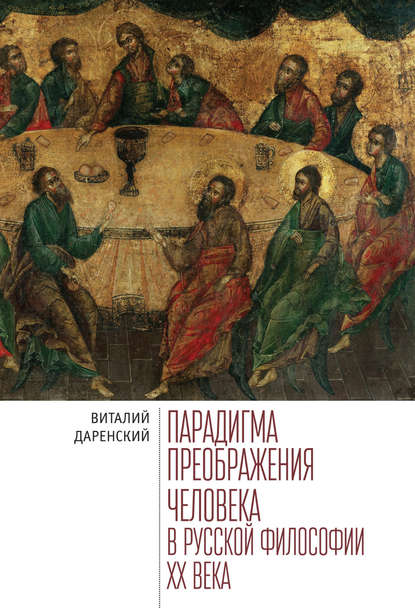По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С. С. Аверинцев сформулировал важный парадокс, согласно которому, в современную эпоху «книги христианских поэтов и философов должны быть компенсацией утрат в области христианства как жизненной реальности»; но, с другой стороны, для христианской философии «специфическая опасность – искать не жизни во Христе, а, так сказать, христианского мировоззрения, что слишком часто близко к понятию христианского “дискурса”. То, что рождается из чтения книг, изначально заражено “книжностью” и рискует остаться переживанием читателя, только читателя (как сказал однажды Поль Валери, “когда-нибудь мы все станем только читателями, и тогда всё будет кончено”)… Но “межеумочность” религиозного философствования, какой бы она ни была опасной, отвечает его легитимнейшей локализации именно между верой, “иноверием” и неверием»[57 - Аверинцев С. С. Христианская философия как проблема для себя самой // Человек. История. Весть. Киев, 2006. С. 431–432.]. Тем самым, риск христианской философии во все времена состоит в том, что она вместо «компенсации утрат» может становиться в первую очередь лишь «мировоззрением читателя трактатов». Чтобы этого не происходило, авторская «техника» философской мысли и дискурса должна всегда быть такой, чтобы воспроизводить свою «инициационную» сущность. И Давид Анахт в этом отношении всегда будет оставаться незаменимым историческим образцом.
Перечислим ряд базовых компонентов, наличие которых в текстах любых жанров означает и наличие в них философского содержания. При этом мы воспользуемся формулировками ряда авторов, исследовавших эту проблему, чтобы выделение этих компонентов не показалось произвольным.
Львовский автор Петрушенко В. Л. пишет: «Что поражает в философии и что навсегда вписано в ее устойчивое самоосуществление? – Это то, что философия состоялась однажды как дерзкое воление говорить все то, что может открыть или проявить бытие как таковое. Вернее, философия говорит голосом бытия, а бытие обретает голос в философском логосе. Ибо философия начинается с того, чтобы о чем бы то ни было говорить как о единственно возможном событии целостного мира и сам мир понимать как единое со-бытие (правда, разделяя данную миссию с поэзией…). Это – предельное говорение, в котором все дано на пределе, у предела и как предел. В принципе философия возникает тогда, когда человек вдруг ощущает себя исторгнутым из плотности бытийственного: когда распадается родовое сознание»[58 - Петрушенко В. Л. Философия на пути к себе – через истину // Петрушенко В. Л. Иов, или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления). Львов, 2008. С. 21.]. Итак, философия как «предельное говорение» является эквивалентом само-утверждения человека в бытии как неповторимого и само-ценного, т. е не-родового существа. Это ставит вопрос о предельной интенции, конечном смысле этого вопрошания.
Известный историк философии Н. В. Мотрошилова отмечает: «Вопросы о жизни и смерти, о возникновении и гибели – первое, что волнует человека, когда он, как бы отрываясь от повседневных дел, начинает размышлять о мире… осмысливая тот тревожный факт, что и ты когда-то умрешь, люди поставили вопросы, которые, с одной стороны, касаются их непосредственно, внутренне, но с другой – не могут не звучать как проблемы поистине космического, всеобщего масштаба и характера. Это вопросы, относящиеся и к отдельному человеку и отнесенные к миру в целом»[59 - Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей: Историко-философские очерки и портреты. М, 1991. С. 80.]. Итак, смысл рождается посредством со-проблематизации мира и человека и только так затем может произойти «событие целостного мира» (Петрушенко В. Л.). Философия, тем самым, представляет собой такой уровень предельной рефлексии, о котором И. Рикер пишет: «надо сказать о субъекте рефлексии то, что Евангелие говорит о душе: чтобы ее спасти, ее надо потерять»[60 - Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М, 1995. С. 31.].
Но это событие представляет собой результат весьма специфического, нетривиального человеческого усилия. Исходя из этого, Г. С. Батищев пишет об изначальности «опытнической философии» – «той, которая направлена не на продуцирование философских текстов для других, а на выполнение философом работы внутри своей собственной жизни и на территории своего собственного душевно-духовного мира. Это – философия как работа над самим собой, как духовно-практический опыт реального процесса “вырабатывания внутреннего человека”, – а от этого опыта, при обеспеченности этим опытом может также излагаться и повествоваться некая его проекция вовне – в виде текстов, в виде произведений»[61 - Батищев Г С. Философия как работа человека над самим собой // Философское сознание: драматизм обновления. М, 1991. С. 149.].
Однако понятие «опытнической философии» может нести в себе риск понимания философии как всего лишь особого способа «конструирования ценностей». Например, на таком ее понимании настаивал Г. Риккерт: «Философия может только понять значимость ценностей и истолковать с точки зрения этих ценностей акты переживания – это все, что можно от нее требовать. Мы, таким образом, снова видим, что истолкованный под углом зрения ценностей смысл, внутренне присущий нашей жизни и действиям, дает нам гораздо больше, нежели трансцендентная действительность, хотя бы и в образе абсолютного мирового духа»[62 - Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М, 1998. С. 41.]. Однако при этом Г. Риккерт почему-то не задается вопросом о том, а возможен ли смысл, придающий ценностное значение тотальности человеческого опыта, без его реального приобщения к трансцендентной действительности «мирового духа»? Очевидно, что нет.
Именно особая сверх-понятийная и до-понятийная причастность и приобщение к Смыслу бытия как такового и составляет содержательную основу философского мышления, отличающую его от науки и «здравого смысла», но роднящего с религией. Об этом пишет Д. фон Гильдебранд, определяя сущностную черту «философской установки»: «В то время как в научном познании преобладает исключительно понятийная тема, в философии решающую роль играет также тема познавательного объединения с объектом – созерцательная тема… Философия рассматривает каждый предмет познания с точки зрения его глубины. Она ищет пути, который ведет из сферы любых предметов к абсолюту, первопричине, источнику всего сущего… в удивлении, которое является сердцевиной этой установки, в этом увлечении сущим всегда имеется глубокомысленное созерцание предмета sub specie aeternitatis»[63 - Гiльдебранд, Д. фон . Що таке фiлософiя? Львiв, 2008. С. 194–195.]. Философию в самом глубинном смысле можно определить как искусство приобщения к тайне, но в ней эта деятельность разума не является изначально направленной на личностный Абсолют, как в религии, но является особой аскезой самого разума, раскрывающей его скрытую «энтелехию», его внутреннюю глубину, свободу и мощь. Можно согласиться с тезисом о том, что «универсальными методами философии являются рефлексия и умозрение»[64 - Микешина Л. А. Философия науки как учебная дисциплина: принципы построения курса // Эпистемология & Философия науки. Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. Т. III. – № 1, 2005. С. 95.], однако аскеза и самосозидание ума является их общим корнем.
Но поскольку эта само-аскеза разума всегда индивидуальна, то в ней познаваемый смысл бытия всегда открывается по-новому, со своей особой стороны, открытой только этому или иному философу, и больше никому. То, что у него затем появляются последователи, не означает, что они идентичны его способу смыслопостижения, но это означает лишь то, что его особый способ смыслопостижения наиболее близок им в качестве живого образца мысли и ее отправной точки. Это порождает бесконечную диалогическую соотнесенность философских умов, о которой пишет А. В. Ахутин: «Философы способны услышать друг друга – не в любознательной признательности, а в средоточии собственного философски захваченного внимания – настолько, насколько это внимание способно отстраниться от того, что его поглощает: заглянуть за край своего света, мира своей умопостижимости (и соответствующей умонепостижимости) в за-умную сферу начал возможных “умов”. Так, философский ум допускает (= открывает) другой возможный склад и смысл бытийной истины, другую логику абсолютности, божественности. Мысль становится философской, когда входит в кризис (“суд”) онтологических первоначал»[65 - Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб., 2007. С. 32–33.].
Эта предметность первичного вопрошания уже по определению такова, что включает в себя все сущее в целом, в том числе и самого вопрошающего о ней субъекта. Тем самым, она уже по определению предшествует самому делению на «субъект» и «объект». А значит, то, что усматривается в результате метафизического вопрошания, не может быть ни чисто «априорными» структурами (т. е. находящимися исключительно внутри «субъекта»), ни чисто «апостериорными» (т. е. взятыми из сферы объектов). Она такова, что определяет и то, и другое, в качестве их первичной и неразделимой онтологической основы. Так, уже в первом опыте системного метафизического построения, как отмечал А. Л. Доброхотов, у Аристотеля, «единственный путь к решению основного вопроса “Метафизики” – что есть сущее как сущее… в силу собственной самодостаточности… Аристотель указывает, что сущности ничто не противоположно… Эта удивительная способность сущности выделяет ее из всего остального сущего… эти особенности могут быть присущи только живому существу. Сущностью в самом специфическом смысле оказывается живой индивидуум»[66 - Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М, 1986. С. 103–104.]. И все последующие в истории метафизические построения исходили из этого же принципа, хотя и определяли само сущее по-разному. Это сущее в его «собственной самодостаточности» является предметом универсального опыта человека в точном смысле слова uni-versalis – т. е. «возвращающий к единому». Метафизические понятия можно определить по содержанию, но невозможно определить по «объему» – они применимы ко всему, везде и всегда. Если, например, кто-то оперирует категорией «материя», то он уже мыслит метафизически, даже если считает себя при этом «диалектическим материалистом». Ведь «материя» не есть вещь среди вещей, но она есть способ бытия вещей (их локализированность во времени и пространстве), и в этом смысле сама «материя» уже не «материальна», но «метафизична».
Когда же мысль возвращается к своему «самостоянию», к своему «не-алиби в бытии» (М. Бахтин), мы имеем дело с метафизической истиной. Для прояснения этого понятия его следует соотнести с более привычным смыслом понятия «истина», определяемого как «соответствие чего-то чему-то». В этом смысле понятие «истина» выступает в качестве оценочного атрибута по отношению к нашим высказываниям о таких фактах, которые могут быть эмпирически идентифицированы. И сам атрибут «истинности» или «не-истинности» присваивается в результате именно такой идентификации факта как такового и его соотнесения с семантикой высказывания об этом факте. Тем самым, этот первый тип употребления понятия «истины» более точно может быть назван фактуально-атрибутивным, поскольку он всегда включает в себя три необходимых момента: а) идентификацию некоего эмпирически ограниченного фрагмента реальности; б) идентификацию предметной семантики высказывания об этом факте; в) соотнесение их между собой и, в зависимости от их совпадения или несовпадения между собой, присвоение этому высказыванию атрибута «истинности» или «не-истинности».
В философии этот тип понимания «истины» обычно называют «корреспондентным», т. е. соотносительным. В логике выстраиваются самые различные формальные схемы и модели таких соотнесений. Впрочем, последние приобретают какой-то смысл только в том случае, когда четко установлены: а) исходные конвенции относительно семантики отдельных терминов высказываний; б) правила построения абстракций, позволяющих теоретически фиксировать и идентифицировать те или иные факты; в) предметная область искомых фактов. Но поскольку эти условия никогда в полной мере не выполнимы, то любые логические модели «истинности» обычно «повисают в воздухе» без специальной предметной интерпретации.
Этот первый тип понимания истины коренится в опыте повседневности (и именно оттуда в качестве готовой предпосылки «импортируется» в науку). Он не касается ни проблем «экзистенциального» порядка, структурирующих личностное бытие человека, ни сущностью и смыслом Бытия как такового. Наоборот, метафизический смысл понятия «истина» связан именно с последними: здесь речь идет об Истине с большой буквы – Истине как ответе на предельные вопрос о самой сущности Бытия. Этот Вопрос вопросов есть вопрос об Истине как таковой, а не об «истинности» каких-то отдельных высказываний, о чем бы они ни были. Конкретно этот Вопрос является человеку в контексте вопроса о смысле его личностного бытия, а также вопроса о сущности человеческого бытия как такового – в смысле его места и предназначения во Вселенной. На этот вопрос может ответить лишь Истина в абсолютном смысле этого слова, либо на него нет ответа вообще.
Хотя, как известно, существующие в истории определения Истины бытия как таковой весьма разнообразны, тем не менее, в них можно выделить некоторые логические инварианты. Во-первых, эта Истина не может быть «продуктом» идентификации с некой частной «фактуальностью», поскольку она сама составляет предельное основание любой фактуальности как таковой и при этом сама по себе не зависит от последней. Тем самым, Истину невозможно познать в качестве некого «данного объекта» – нет, Истина в абсолютном смысле слова познается лишь путем особой экзистенциальной причастности к ней самой. Эта Истина может быть познана лишь постольку, поскольку она, так сказать, «обытийствована» человеком в его собственном существовании хотя бы в самой минимальной степени. В свою очередь, это обстоятельство сразу же создает эффект «герменевтического круга»: познается лишь то, что реально полагается в «моем» бытии, но в нем «полагается» лишь уже реально познаваемое. Тем самым, в познании Истины первично диалогически-волевое, а не чисто интеллектуальное начало: Истина «отвечает» лишь тому, кто к ней взывает всем своим существом, а не тому, кто хочет о ней «судить» лишь отстраненно-»объективно».
Во-вторых, Истина в этом втором, метафизическом смысле слова, de facto всегда мыслится в качестве Абсолюта – т. е. в качестве такого предельного основания любого сущего бытия, которое само не зависит от последнего, но последнее всецело зависит от него. И не важно, как этот фактический Абсолют называется в отдельных мировоззренческих доктринах – например, в атеистических доктринах атрибуты Абсолюта de facto присваиваются категории «материи», – но он все равно всегда имплицитно мыслится в любом определении Истины. Более того, и даже когда сама Истина в абсолютном смысле слова отрицается, то именно эта смысловая бессубстанциальная Пустота de facto и утверждается в качестве Абсолюта.
В-третьих, в определении Истины с необходимостью всегда полагается связь между Абсолютом и внеположной ему эмпирической реальностью (в том числе и человеческим бытием). В свою очередь, как бы не мыслилась эта связь, она с необходимостью полагает некое самоумаление Абсолюта, его жертвенное «излияние» вовне, в пространственно-временной континуум.
Исходя из названных логических инвариант, можно судить о степени проясненности Истины в различных мировоззренческих доктринах: от почти полной бессознательности в материализме и позитивизме – до ее высшего самопроявления для человеческого разума в религии Откровения.
Тривиальной является мысль о том, что исторически существующее многоцветье философских учений выражает многоликость мира и многоплановость человеческого бытия в нем. Но за ней стоит отнюдь не тривиальная проблема содержательного единства философии как особого типа знания и мыслительной деятельности. Онтологической гарантией того, что при всем разноообразии и взаимном противоречии философских доктрин сама философия, тем не менее, является чем-то содержательно целостным как единое познавательное пространство смыслов состоит в том, что «абсолютная полнота сущего, ассоциируемая с понятием Универсума, означает, что он не имеет одного-единственного мероопределения, но универсален и в своих пространственно-атрибутивных проявлениях, и в смысле отсутствия границ времени (вечность) и в плане актуализации всего возможного, которая, стирает в вечности границы между возможным и действительным и тем самым реализует максимум существования»[67 - Крымский С. Б., Кузнецов В. И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. Киев, 1983. С. 94.]. Поэтому «философия не может действовать на том же самом уровне абстракции, что и частные науки, ибо в этом случае она не нужна. Но она не может действовать и на уровне обобщения “от частного – к общему”, ибо никакой обобщенной картины мира как единого целого не может быть в принципе (ибо мир многомерен). Но философия может и должна вскрыть многоинтервальную, многомерную структуру мира, уточнить границы отдельных миров, уровней, контекстов, выявить взаимосвязи, взаимоотношения отдельных между ними, переход от одних уровней к другим… Поиск и осмысление этой многомерной структуры мира и есть задача и предмет философии»[68 - Лазарев Ф. В. К вопросу об интервальной метафизике // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». Том 18(57). № 1 (2003). С. 4.]. Отсюда вытекает 1) «идея бесконечной множественности слоев бытия (интервалов), так или иначе связанных в единую систему, (хотя возможны и несвязанные интервалы)» и 2) «тезис об отсутствии абсолютного наблюдателя в процессе познания»[69 - Там же.]. Поэтому «для интервальной метафизики любая обоснованная точка зрения рассматривается прежде всего в синхронном плане как обусловленная существованием соответствующего интервала абстракции. Разные точки зрения отображают фундаментальный факт онтологического плюрализма, гетерогенности мира. При этом множество интервалов может образовывать определенную связанную многомерную конфигурацию»[70 - Там же. С. 12.]. Такая многомерная конфигурация, складывающаяся из исторически сложившейся совокупности философских доктрин, и составляет то, что является философским знанием как внутренне разнородным множеством.
Множество метафизик как «моделей Универсума» имеет свой точный аналог в факте конкуренции научных парадигм. Для философии не менее, чем для науки, свойственен процесс смены парадигм, описанный Т. Куном: «Парадигмы вообще не могут быть исправлены в рамках нормальной науки. Вместо этого… нормальная наука в конце концов приводит только к осознанию аномалий и к кризисам. А последние разрешаются не в результате размышления и интерпретации, а благодаря в какой-то степени неожиданному и неструктурному событию, подобному переключению гештальта. После этого события ученые часто говорят о “пелене, спавшей с глаз”, или об “озарении”, которое освещает ранее запутанную головоломку, тем самым приспосабливая ее компоненты к тому, чтобы увидеть их в новом ракурсе, впервые позволяющем достигнуть ее решения»[71 - Кун I Структура научных революций: Сб.: Пер. с англ. М, 2003. С. 186.]. Совершенно то же самое происходит и при появлении новой философской доктрины, которая сменяет другую не в результате лучшей «аргументированности», а потому, что обеспечивает своим адептам большую интенсивность «озарений», чем ее конкуренты.
В свою очередь, в трансляции философского знания и трансформации направлений философского вопрошания имеют место те же самые процессы смены исследовательских программ, которые описаны И. Лакатосом: «ни эксперимент… ни хорошо подкрепленная фальсифицирующая гипотеза низшего уровня не могут сами по себе вести к фальсификации. Не может быть никакой фальсификации прежде, чем появится лучшая теория… если фальсификация зависит от возникновения лучших теорий, от изобретения таких теорий, которые предвосхищают новые факты, то фальсификация является не просто отношением между теорией и эмпирическим базисом, но многоплановым отношением между соперничающими теориями»[72 - Лакатос И. Методология исследовательских программ: Пер. с англ. М., 2003. С. 55.]. Принципиальное отличие диалектики верификации/ фальсификации в философском знании, в отличие от научного, состоит в том, что в философии этот процесс не имеет завершенного и однонаправленного характера – более того, напряженная борьба «взаимных фальсификаций» и составляет суть взаимоотношения между разными философскими доктринами, а отнюдь не их благообразный «диалог».
Третьим аспектом, сближающим философское познание с научным, является тот факт, что в их основе всегда лежит феномен «личностного знания», который на примере науки был исследован в концепции М. Полани. Суть его состоит в том, что «личное участие познающего человека в актах понимания… не делает наше понимание субъективным. Постижение не является ни произвольным актом, ни пассивным опытом; оно – ответственный акт, претендующий на всеобщность. Такого рода знание на самом деле объективно, поскольку позволяет установить контакт со скрытой реальностью; контакт, определяемый как условие предвидения неопределенной области неизвестных (и, возможно, до сей поры непредставимых) подлинных сущностей»[73 - Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 19.]. Это определение в полной мене подходит и к философскому познанию, но в философии этот принцип становится еще более радикальным, поскольку здесь «подлинные сущности» открываются уже не только в частных предметностях, но такая сущность утверждается и относительно Бытия в целом, чего не делает наука.
Как отмечает Ф. В. Лазарев, с точки зрения «интервального метода» философия как целое существует «не только в качестве формы культуры, но и в идейно-концептуальном смысле» в соответствии со следующим принципом: «всякая философская истина имеет смысл лишь в контексте той или иной системы идей и является справедливой не вообще, а лишь в рамках определенного интервала абстракции (конституирующего соответствующую познавательную позицию). Противоположные друг другу истины не исключают, а лишь взаимно ограничивают друг друга, а разделяющая их граница логически как и может быть мыслима как интервал. И поскольку интервал выступает не только как логическая, но и как онтологическая граница, то с философской точки зрения неразумно сопоставлять противоположные истины в едином логическом пространстве». Тем самым, здесь имеет место особый принцип относительности к условиям познания, подобно тому как в физике имеет место особый принцип описания явлений с относительностью к той или иной системе отсчета»[74 - Лазарев Ф. В. Философия в контексте современной культуры: от плюрализма к монизму // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. История. Экономика. Филология». Том 13 (52). № 1 (2000). С. 23.]. Такая стратегия мышления открывает возможность перехода от «абсолютного плюрализма к интервальному монизму»[75 - Там же. С. 25.], поскольку «в отличие от науки, которая покоится в основном на фундаменте “закрытой рациональности” и четко ограничена рамками выбранного интервала абстракции, философия способна работать в духе “открытой рациональности”, пытаясь в пределах одного учения постигнуть многоликость действительности»[76 - Там же. С. 26–27.]. Поэтому «антиномичность заложена в самой стратегии философского освоения мира, в самой природе философствования как человеческой потребности. Философ ищет истину (и по возможности – с большой буквы), но в силу своей интеллектуальной честности и ответственности перед Истиной он вынужден признать, что никакой прорыв к трансцендентному и абсолютному не может рассматриваться как окончательный»[77 - Там же. С. 27.]. Термин «прорыв к трансцендентному» здесь является плодотворной метафорой, «схватывающей» предельную предметную устремленность философского акта. С гносеологической точки зрения «прорыв к трансцендентному» как объективное содержание любого философского акта обозначается традиционной «проблемой идеального», поскольку содержанием трансцендентного является идеальное.
При всем необъятном разнообразии теорий идеального, созданных и создаваемых с древности до нашего времени, едва ли не самым актуальным является экзистенциальный анализ априорных условий и метода познания идеального. Эта актуальность особенно велика в современную эпоху тотальной секуляризации, когда естественные экзистенциальные основания познания идеального данные в религиозном опыте, у большинства людей (в том числе и философов) фактически отсутствуют. Отсутствие конкретной религиозной практики еще не означает невозможности познания идеального, однако исторически и то, и другое были не просто взаимосвязаны, но фактически составляли два аспекта одного и того же процесса развития человека как духовного существа. Но если в прошлом познание идеального зиждилось на религиозном опыте, то в секулярную эпоху происходит своего рода «оборачивание» ситуации – ныне наоборот, рефлексия человека над особым содержанием сознания, не имеющим материально-предметных эквивалентов, становится экзистенциальной предпосылкой причастности человека к религиозной традиции. Поэтому особой задачей философии в настоящее время является исследования «безпредпосылочных» оснований познания идеального, которые заложены в априорных структурах сознания и требуют лишь актуализации и содержательного «наполнения» на основе жизненного и ментального опыта человека.
Анализ этих структур может быть разнообразным, а специфика экзистенциального подхода состоит в том, что познание идеального рассматривается в нем как особая событийность, как последовательность экзистенциальных и ментальных событий, всегда трансформирующих сам познающий субъект. При этом можно выделить первичное событие, обусловливающее саму возможность познания идеального – это переход от эмпирически-предметного мышления («мышления картинками», по М. К. Мамардашвили) к мышлению как «работе со смыслами», всегда опосредованного рефлексией идеальных содержаний сознания. Первичная возможность такого перехода уже заложена в процессе овладения человеком языком в раннем детстве. Это овладение невозможного без способности «работы со смыслами», поскольку и отдельные слова естественного языка, и тем более правила их сочетания между собой никогда не сводятся лишь к наглядным представлениям, к «мышлению картинками», но всегда основаны на идеально-смысловых обобщениях. Однако на этом «детском» уровне «работа со смыслами» еще не является эксплицированной в форме рациональной рефлексии. Именно этот шаг экспликации идеальных смыслов и является базовым событием в познании идеального.
Впрочем, в настоящее время очень широко распространена парадоксальная ситуация, при которой рефлексия формируется, но при этом «мышление картинками» остается непреодоленным. В этом случае человек пытается объяснить идеальное через то, чем оно не является – например, как функцию структур мозга (физикализм) или как форму социальных отношений (концепция Э. Ильенкова) и т. п. Хотя такие попытки логически абсурдны, поскольку основаны на подмене предмета (логическая ошибка qui pro quo – «одно вместо другого») и отождествляют идеальное с чем-то материальным, они по понятным причинам весьма популярны в эпоху секуляризации, когда разрушены базовые навыки духовного познания.
Важно вспомнить, что переход от «мышления картинками» к мышлению идеально-смысловыми предметностями и осознание различия между ними в традиционных обществах имел ритуализированный характер – он ускорялся, облегчался и закреплялся в обрядах «инициации». Современному же человеку, при отсутствии таких обрядов и сложного процесса подготовки к ним, ныне приходится совершать этот переход самостоятельно, без всякой внешней поддержки, исключительно путем свободного экзистенциального усилия. Тем самым, априорной предпосылкой познания идеального в любом случае является духовная инициация, т. е. опытное событие причастности миру идеально-смысловых сущностей. При этом простейшей формой проявления человеческого духа на уровне сознательной рефлексии является сама способность к идеально-смысловому, «не-картиночному» мышлению.
Первичное событие духовной инициации становится своего рода «архетипом» экзистенциальных трансформаций человека и затем снова повторяется во все новых содержательных проявлениях. Если при этом происходит дальнейшее духовное возрастание человека, то оно имеет еще две стадии, помимо первой (т. е. только лишь перехода к идеально-смысловому мышлению). Второй, более высокой является такая трансформация познающего ума, при которой он становится способным одновременно усматривать всю идеально-смысловую структуру тварного мира как единого целого посредством созерцания и рефлексии эмпирических явлений. Таким усмотрением является любая достаточно развернутая индивидуальная философия идей, начиная с Платона. Третьей стадией является трансформация ума уже под действием энергий нетварного Абсолюта – это сфера мистического знания.
Постижение идеального имеет свою инвариантную форму выражения – это конституирование «смыслов». «Смысл» – это включенность некоторой частной и ситуативной предметности сознания в общую идеальную «картину мира», сложившуюся в сознании; такая необходимая связь между ними, без которой ни эта предметность, ни эта «картина» не могут быть помыслены. Это понимание запечатлено и в самой этимологии слова «смысл» – это со-мысливание чего-то одного с другим и со всем потенциально мыслимым вообще. «Смысл» – это непрерывные «встречные» рефлексии от наличных предметных ситуаций, подлежащих пониманию и концептуализации к тем первореальностям, которые предполагаются лежащими в их основе – и обратно. Эта развивающаяся, многообразная рефлективная связь наличной эмпирической фактичности и идеально-смысловых предметностей сознания составляет специфическое, т. е. категориально-философское содержание термина «смысл».
Базовый уровень человеческого мышления вообще можно определить как «работу со смыслами» – назависимо от специфики их дальнейшего опредмечивания. Смысл до тех пор является для нас смыслом, пока сохраняет в себе неисчерпаемую инаковость нашему опыту, связывая его с бесконечностью Смысла бытия как такового. Смысл постигается только бытийной – живой и смиренной – причастностью к его истоку. Смерть символического Иного уничтожает смысл, оставляя его мертвые «симулякры» как предмет интеллектуальной игры, слепо мнящей о своем всепонимании. Тем самым, в конституировании смыслов сознанием снова и снова повторяется тот акт духовной инициации, который изначально сделал человеческое сознание способным помыслить идеальное как таковое – но он повторяется уже в редуцированной, схематической форме, за исключением тех редких, но фундаментальных случаев, когда снова случается особый прорыв сознания в новую для него реальность и оно выходит на качественно более высокий уровень смыслопостижения.
Философский акт укоренен в базовую структуру экзистенции и вырастает из обычных привычек смыслополагания – но только в тех случаях, когда оно становится кризисным и предельным по своему содержанию. По Н. Аббаньяно, «экзистенция человека характеризуется тем, что человек для самого себя является проблемой своего собственного бытия… само единство его Д сам конкретный смысл его индивидуальности ускользает от него, если он не ставит себе его проблему и не осуществляет его поиск»[78 - Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. СПб., 1998. С. 38.]. Цицерон «Тускуланских беседах» назвал философию «наукой об исцелении души» (Tusc, III, 6)[79 - Цит. по: Цицерон. Философские трактаты. М, 1985. С. 16.]. Это определение было воспроизведено и в древнерусской «Пчеле»: «Делатель землю мягчит, а философ – дупло»[80 - Цит. по: Громов М. К, Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. С. 37.]. И в наше время большинство людей, интересующихся философией, хотят исцелиться ею от невыносимого «недуга бытия», то есть от утраты смысла жизни.
Разум создает для себя такие «зеркала», чтобы в них хоть как-то постигать самого себя в своем пра-истоке (а не во внешних своих «деловых» функциях, легко обходящихся без всякой философии)? Вот в этом и состоит все «мастерство» философа. Фалес, например, делал это вот как. Когда его спрашивали, он отвечал, и «изречения его известны такие: «Древнее всего сущего – Бог, ибо он не рожден. Прекраснее всего – мир, ибо он творение Бога. Больше всего – пространство, ибо оно объемлет все. Быстрее всего – ум, ибо он обегает все. Сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует всем. Мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все. Он сказал, что между жизнью и смертью нет разницы. – “Почему же ты не умрешь?” – спросили его. “Именно поэтому”, – сказал Фалес»[81 - Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. с древнегреч. М. Л. Гаспарова. М, 1998. С. 65.]. Что здесь означает это «всего»? В каком «режиме» здесь работает разум? Разум здесь совлекает свои внешние привычки и навыки, совлекает их со своей исконности – ив этом смысле – само-у-праздняется: ведь именно эти привычки и навыки и были всегда его действенной «способностью мыслить», в «подоснову» которой заглядывать было не положено! Задавая такие вопросы о «всем» разум превосходит свои «естественные» возможности – ведь это самое «все» никак ему не дано в непосредственном восприятии.
Как отмечает А. Л. Доброхотов, поскольку философия изначально «отказывается от очевидности факта (обязательной для науки и искусства)» и опирается “на очевидность сознания”, то для философского разума «главным условием перехода в свою собственную автономную область (создания “философской установки”) является отказ от внефилософских очевидностей»[82 - Доброхотов А. Л. Философия и христианство // Доброхотов А. Л. Избранное. М, 2008. С. 84.]. Благодаря этому философия всегда как-то приоткрывает «пра-феномен» (Urph nomen) самого разума, тем самым, запуская процесс его само-созидания и преображения. Философское преображение ума и человека в целом в значительной степени соответствует тому, что К. Ясперс называл «экзистенциальным просветлением», парадоксальность которого состоитт в том, что «поскольку оно беспредметно, не дает результата. Ясность сознания содержит требование, но не дает выполнения. В качестве познающих нам приходится удовлетвориться этим. Ибо я не есть то, что я познаю, и не познаю то, что я есть… Познанию человека наступил конец, когда было постигнуто, что его граница находится в экзистенции… Создание метафизического предметного мира или возможность открыть истоки бытия – ничто, если они отделены от экзистенции»[83 - Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М, 1992. С. 388.]. В этом смысле, как писал А. Ф. Лосев, «жизнь философа – между сумасбродством и методологией»[84 - Лосев А. Ф. История эстетических учений // Лосев А. Ф. Форма – Стиль – Выражение. М, 1995. С. 356.].
С другой же стороны, философия всегда, как писал Г. Шпет, «в ее целом есть нескончаемый спор. Облеченный в индивидуальные исторические формы, этот вечный спор дает бесконечное разнообразие вопросов и ответов, которые и составляют содержание так называемой “истории философии”. И чем большее разнообразие ответов встречает какой-либо вопрос, тем, следовательно, она богаче своим смысловым содержанием, тем больше альтернатив представляет раскрытие возможностей в смысле идеи. Даже всякое “нет» приобретает в этом диалектическом развитии свое положительное место и нет «смыслов» в ней “навсегда” исключенных, но остается неисчерпаемое богатство интерпретаций для нового в ней творчества. Другими словами, определенность вопросов философии не полагает предела творчеству интерпретаций и ответов»[85 - Шпет Г Г. Работа по философии // Логос. Философско-литературный журнал. Вып. 2. М, 1991. С. 220.]. Эта индивидуализированность философского смысла изначаль отражена даже в этимологии – так, В. Н. Топоров в этимологии греческого слова «софия» обратил внимание на связь его с древним индоевропейским корнем, обозначавшим родство-принадлежность, который в русском языке представлен словами «свой», «свойство»[86 - Топоров В. Н. Еще раз о др. греч. SOFIA: происхождение слова и его внутренний смысл / Структура текста. М, 1980, С. 148–173.].
Однако что же при этом связывает философские умы в едином содержательном пространстве мысли, если способы их смыслопостижения могут быль крайне различными, вплоть до полной несовместимости? Это сама постановка вопроса о смысле всего, которая, в свою очередь, включает в себя в качестве собственного основания вопрос о начале всего – но не о начале во времени, – а об онтологическом начале, об arche. Таков же был и исторически первый вопрос философии: «вопрос об arche… впервые был поставлен досократиками в плане тотального истолкования»[87 - Хофмайстер X. Что значит мыслить философски. СПб., 2006. С. 444–445.], Профессор Гейдельбергского университета X. Хофмайстер справедливо отмечает, что в философии «в поисках предметной области мы познаем то, что мир, именно потому, что философия является частью его, ей не задан предварительно… Ее определения arche – это не некий акт формулирования аксиомы, который, будучи завершенным и выполненным, можно было бы принять за основополагающую истину… поиск arche будет продолжаться так же долго, как и процесс философствования, причем философия не может оставить вопрос об arche без внимания, поскольку он всегда… сохраняется как основной вопрос философской мысли»[88 - Там же. С. 49.].
Но каким образом может быть познано arche, если оно эмпирически никак не наблюдаемо и не может быть предметом эмпирических обобщений – и именно поэтому пониманий arche в истории философии множество? Оно познается совершенно особым способом – путем экзистенциального эксперимента, а именно – через вопрос о Смысле бытия как такового. Но как нам может раскрыться этот Смысл, если он тоже никак не наблюдаем? Он может нам раскрываться путем особого рефлексивного усилия потому, что наше непосредственное бытие и сам факт нашего осознания своего бытия, как-то изначально «встроены» в этот Смысл, уже живут в нем и им, но не изначально не «видят» его, как невидим чистый воздух, которым мы дышим. Поскольку этот смысл неисчерпаем, то он и может раскрываться бесчисленным количеством рефлективных и нарративных способов, в том числе и философских. Особенность философских способов в том, что в них этот смысл всегда раскрывается через истолкование arche – первоосновы всего сущего, в том числе и первоосновы Смысла, а отнюдь не только предметного бытия Универсума. Достигая способности и состояния особого «предельного говорения» благодаря особому усилию и особому навыку мысли, философ всегда по-своему, всегда точно вещает о нем.
Эту специфику философского познания можно назвать по-разному. Например, киевский автор А. Ф. Погорелов называет ее «познанием внутренним способом»: «Познание действительности внутренним способом является характерной особенностью философии – как западной, так и восточной… познание действительности через самоуглубление, собственно, означает предельную сосредоточенность на саморефлективном мышлении, которое обеспечивает интеллектуальное созерцание внеэмпирического»[89 - Погорелов О. Ф. Природа фiлософського плюралiзму // Фiлософська думка. 2001. № 1. С. 16–17.]. Соответственно, «саморефлексия имеет в самой себе основание для содержательного определения актов мышления. Это ясно указывает на то, что философские понятия, в отличие от научных, не является результатом обобщения эмпирических данных… Здесь возможна опора только на саморефлексию. Поэтому настоящий творец философского учения всегда начинает словно из нуля. Все, созданное его предшественниками, имеет для него вторичное значение. Если нет такого самоуглубления, то каким бы прекрасным ни было теоретическое построение, оно будет лишь имитацией философского умозрения»[90 - Там же. С. 17.]. «Начинание с нуля» входит в конституитивную специфику философского способа мысли по вышеуказанной причине – потому, что Смысл может раскрываться только каждому по-своему, и больше никак. Однако этот факт парадоксально и антиномически взаимообусловлен с тем фактом, что философский способ познания никогда не «самозарождается» в изолированном индивиде, но всегда транслируется через тексты, задающие форму мысли (закон «необходимости формы» как а priori философии, по М. К. Мамардашвили).
В. В. Бибихин отмечает, что «слово автор происходит… от латинского augere – расти, увеличиваться, приумножать, усиливать. Авторитет – это место разрастания смысла, обретающего способность вместить в себя многое. Рост в философии… включает обязательную ступень безусловного следования учителям. Авторство в этом смысле возникает из преданности авторитету. В стороне от такой преданности мы философию не найдем»[91 - Бибихин В. В. Язык философии. С. 98.]. Хотя сама названная антиномия этим не снимается и парадокс не отменяется, но получают объяснение: а именно, транслируется посредством живой и искренней преданности авторитету сама способность к авторству (подобное передается подобному), которой в ином случае просто не возникнет. В частности, чтобы быть способным на философский акт мысли сначала нужно со-бытийствовать в преданности и подражании с теми, кто это умеет.
Таково инвариантное содержание философии как особой сферы мысли. Далее рассмотрим специфику философского содержания текстов теоретико-дискурсивного, литературно-художественного и разговорного жанров. Среди недавних публикаций, в которых затрагивалась эта специфика, стоит упомянуть концепцию киевского автора Н. В. Хамитова, который разделяет жанры теоретической философии, философской эссеистики и философского искусства. По его определению, теоретическая философия – это «способ философствования в понятиях и категориях, которые осуществляется через дискурсивное мышление – мышление, которое использует четкую систему аргументов и тяготеет к интеллектуальной дискуссии… Если исходить из того, что теоретическая философия старается построить понятийную модель мира в целом, то гениальность в теоретической философии реализуется как категориально-понятийное моделирование мира в целом». В свою очередь, философская эссеистика является «способом бытия философии в культуре, в которой достигается гармония понятийного и образного. Такую гармонию можно назвать смыслообразом. Можно назвать таких гениальных философов-эссеистов, как Б. Паскаль, Ф. Ницше, Н. Бердяев»[92 - Хамiтов Н. В. Фiлософська антропологiя у «позитивному» та «негативному» проблемному полi: концепти Еросу та Танатосу // Гранi людського буття: позитивнi та негативнi вимiри антропокультурного. Киев, 2010. С. 186.]. Философское искусство, в свою очередь, «является образно-персоналистическим развертыванием философских категорий. То, что в теоретической философии осуществляется через понятийный вывод и доказательство, а в философской эссеистике обнаруживается в виде свободного взаимодействия смыслообразов-идей, в философском искусстве достигается через свободную игру и общение смыслообразов-персонажей»[93 - Там же.]. В философском искусстве имеет место «тождественность содержания и формы как в каждом произведении, так и в художественной картине мира в целом. Гений в сфере философского искусства всегда стремится объединить в целое не только образы, а и произведения; в результате произведения сами объединяются в мета-произведение, которое можно назвать художественной картиной мира»[94 - Там же. С. 186–187.]. Инвариантным при этом является признак «философской гениальности», который может проявиться в любом из этих трех жанров: «результатом философской гениальности во всех ее проявлениях является создание личностью целостного миропонимания и мировоззрения… Однако философская гениальность способна на это только через преодоление собственной деструктивности как отчуждения от других философских позиций»[95 - Там же. С. 187.]. Последнее замечание, как видим, четко исходит из того смыслосозидающего статуса философского авторитета, о котором было сказано выше.
По нашему мнению, такая классификация жанров философии по-своему плодотворна, и ею можно пользоваться, но она не заостряет до предела принципы отличий тех форм трансляции философского содержания, которые фактически имеют место в культуре: теоретического дискурса, художественного постижения Смысла бытия как такового и живой речи между собеседниками на философскую или любую другую тему, имплицитно имеющую философское содержание (а это исторически как раз самый первый философский жанр). В частности, философская эссеистика – это на самом деле синкретический жанр, объединяющий в себе элементы всех трех названных: в нем есть и теоретические фрагменты, и художественная образность, и элементы лиризма, и прямые диалогические обращения к читателю, которые перенесены сюда из устной речи. В свою очередь, можно сказать, что не существует некого особого «философского искусства», а писатель и художник никогда не стремится философствовать – но любое талантливое произведение любого вида и жанра искусства может внезапно и для своего автора, и для реципиента вдруг оказаться «органом прозрения» в Смысл бытия, то есть нести реальное философское содержание. Рассмотрим содержательные особенности трех жанров, выделенных в предложенной нами классификации.
Обобщенно говоря, задачей теоретико-дискурсивной формы трансляции философского знания является «перекодирование» базовых категорий, конституирующих способы описания первичных данностей сознания, а также трансформация правил употребления производных от них понятий. Эта форма возникла ранее науки Нового времени, которая также использует теоретико-дискурсивную форму трансляции знания, фактически заимствовав ее в свое время у философии (схоластики). Общность в употреблении этой формы между наукой и философией состоит в том, что обе в данном случае исходят из абстракции «достоверного знания», которое должно передаваться точно и без искажений. Эта абстракция очень условна и для науки, в которой знание все время меняется – и не только путем «накопления», но и путем смены парадигм, то есть исходных аксиом и принципов. А в философии эта абстракция вообще становится парадоксальной, исходя из того, что в качестве философских могут строго теоретически излагаться прямо противоположные по смыслу утверждения. Какая же, казалось бы, здесь вообще может быть «теоретическая строгость»? Однако дело в том, что эта форма для философии важна и содержательна сама по себе потому, что независимо от того какая именно философская доктрина излагается теоретически, эта форма в любом случае показывает, что философия есть особое знание об особых вопросах, которыми не занимается наука. Именно теоретическое изложение четко очерчивает предметную область философского постижения – как мир неэмпирических смыслов. И даже независимо от того, что конкретно о них утверждается в том или ином тексте, сам по себе он приводит читающего к открытию этой особой области, которая иначе никак открытой быть не может.
Парадоксальность теоретической формы философствования состоит в том, что здесь теория словно превращается в «свое иное»: будучи призванной обеспечивать строгость и однозначность содержания мысли, в философии теория используется, в конечном счете, с прямо противоположной целью – чтобы сделать максимально наглядными «разломы» и преобразования смыслов, обеспечивая то «перекодирование», о котором сказано выше.
Это парадоксальное использование теории как формы мысли, тем самым, обусловливает и особое амплуа философа как «творца языка». Л. Н. Синельникова в работе «Философ как языковая личность» справедливо отмечает: «Языковая личность философа… представляет собой интенсивную индивидуальность, то есть сильную языковую личность… Сильная языковая личность имеет собственную стратегию речевого бытия, обладает креативными способностями, проявляющимися в даре именования событий мысли, что особенно важно для создания философского дискурса, в котором постоянно идёт поиск имени для непоименованного, не представленного в эмпирии… изменения в строении философского дискурса отражают изменения в самой теории познания, а также эволюцию форм презентации познанного»[96 - Синельникова Л. Н. Философ как языковая личность // Синельникова Л. Н. Жизнь текста или Текст жизни. Т. 2. Луганск, 2005. С. 338–339.]. Итак, философ, как и народ в целом, как и поэт – тоже творец бытия, он «стихослагает о бытии», оставляя на теле языка «борозды мысли» (М. Хайдеггер). Однако это делается по правилам теории, в соответствии с научной формой высказывания. Тем самым, «теоретичность» и «научность» здесь показывают свой потаенный – «пойетический» (т. е. само-созидающий) – исток.
Благодаря этому в философии достигается и такая крайняя степень полипарадигмальности теоретического мышления, никогда не свойственная «нормальной» науке. А. П. Алексеев в книге «Философский текст: идеи, аргументация, образы» пишет: «Реализация идеи философского метаязыка, на котором можно было бы говорить о разных направлениях в философии и которым представители этих направлений могли бы пользоваться (если бы захотели) для общения друг с другом, исключительно сложна»[97 - Алексеев А. П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М, 2006. С. 242.]. Фактически она и не реализуема на практике, поскольку, например, «стандарты философствования “аналитиков” и постструктуралистов различаются настолько, что практически не оставляют оснований для продуктивной “межфилософской” дискуссии – ни с целью уточнения знания, ни по поводу правомерности обобщений, ни по поводу старых и новых идей и методов»[98 - Там же. С. 310.]. Но на самом деле это так и должно быть по природе самой философской «теории», которая, являя сам пойетический исток теоретического мышления, сразу же показывает и его самодеконструкцию в бесконечном плюрализме.
Суть самоотрицания теоретического мышления в самой «теоретичной» философии Гегеля состоит в том, что здесь теория становится абсолютно неадекватной своему абсолютному Предмету именно потому, что старается достичь абсолютной адекватности, слиться с ним в иллюзорно «абсолютном» знании. Теоретическая форма философствования, как это ни парадоксально на первый взгляд – это самая эффективная форма саморазоблачения падшего человеческого разума, ведущая ко смирению, которое уже не «теоретично».
Второй важнейшей формой философского мышления является его художественная, в первую очередь, литературно-художественная форма. Здесь философствование реализуется как конституирование базового развернутого символа «картины мира», а также производной от него образно-сюжетной системы, вводящих сознание в состояние мировоззренческой рефлексии. В качестве самого общего критерия наличия философского содержания в художественном тексте, например, Р. Р. Москвина в содержательной статье «“Смешанные” жанры словесности как эмпирия философствования» определяет следующее: «писатель (поэт, художник), применяющий к действительности идею как “высшую точку зрения” (а в этом и состоит одна из важнейших общественных функций искусства), по необходимости выступает как писатель-философ, а его творчество – как художественная (литературная) форма философствования»[99 - Москвина Р. Р. «Смешанные» жанры словесности как эмпирия философствования // Вопросы философии. 1982. № 11. С. 104.]. В данном случае «идея как высшая точка зрения» на действительность в целом, порождающая особый художественный мир образно-сюжетных отношений является аналогом философской «системы», подлежащей интерпретации/деконструкции.
Однако в этом мире есть то, что не подлежит деконструкции, но как бы «встраивается» в саму реальную жизнь в качестве ее внутреннего живого элемента, с которым реальные люди вступают во внутреннее диалогическое общение – это художественные образы личностей. Если «вечная задача искусства, – отмечает К. Кантор, – являющегося символической формой бытия индивидуальной свободы, состоит… в том, чтобы каждый раз заново выявлять в исторически меняющихся ликах вечную истину свободно-деятельностной сущности человека», то выполняя эту задачу, искусство являет «последовательные ступени наиболее совершенного поэтического воплощения человеческой свободы»[100 - Кантор К. Тысячеглазый Аргус. М, 1990. С. 24.]. К. Кантор выделяет три главные художественно-символические воплощения «образов человека»: Прометей – Гамлет – Фауст. Могут быть и другие варианты, но в любом случае именно в таких «сквозных» для истории культуры образах личностного бытия и содержатся в своей самой наглядной форме типические «образы человека».
Целостное постижение смысла бытия в искусстве происходит не только в образах личности, «стягивающих» это смыслопостижение в один живой человеческий «лик», но и без него – через осмысленную явь «лика» живой природы. Это имеет место не только живописи, но и в поэзии. Философия и поэзия – это «два сродные, но притом специфические, одно в другое без остатка не разменивающиеся, поля человеческого воображения и словесного творчества», у истоков которых стоит удивление – «состояние между знанием и незнанием»[101 - Рашковский Е. Б. Философия поэзии, поэзия философии. СПб., 2016. С. 5.] и потребность в «проекте самообретения»[102 - Там же. С. 192.]. Поэтическое постижение бытия – это «метафизика мгновения» (Г. Башляр), которая условно «устраняет» человека в качестве случайного, ограниченного субъекта из участия в бытии, чтобы явить его подлинный лик: «А что такое поэзия, как не опыт сознания бодрствующего, т. е. сознания, внимающего потоку жизни и удостоверяющего свое бытие именно в неспособности ограничить себя какой бы то ни было “данностью”?» (В. В. Малявин)[103 - Малявин В. В. Язык сердца: афоризм и китайская традиция // Афоризмы старого Китая. М, 1988. С. 10.]. Это «бодрствование» сознания над абсолютной текучестью бытия удостоверяет подлинность его сути в любом случайном событии, поэтому в поэзии бытие переживается как нечто таинственное и, вместе с тем, бесконечно открытое и близкое нам. Такое переживание, например, особо остро передал, обращаясь к простому полевому цветку, яркий русский поэт второй половины XX века Василий Казанцев:
Ты – выше чувства и ума!
Перед тобой душа – нема,
Как перед смертной бездной…
И – отстраняется сама
От муки бесполезной.
В этих строках особо ярко передается апофатическая непостижимость тварного бытия – у него тоже есть свой апофатизм, иной, нежели у Творца, но по-своему тоже неисчерпаемый, не «ухватываемый» на в каких теоретических категориях. А «катафатической» стороной высшего поэтического постижения мира является сверхбытийное видение его пра-смысла: жизнь – смерть – бессмертие. Например, как у Н. Заболоцкого в поэме «Лодейников»: