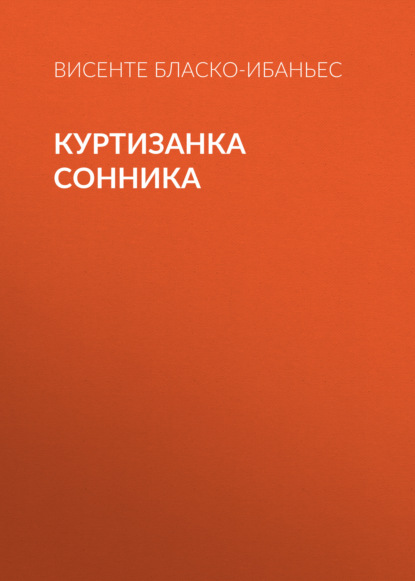По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Куртизанка Сонника
Автор
Жанр
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прикажи им войти… Исполни их желание… Пусть только нас оставят в покое.
В перистиле раздался звук шагов, смех и шепот, и в триклиниум, как непослушное стадо, вступили гадесские танцовщицы.
Это были девушки невысокого роста, со стройными гибкими членами, со светло-янтарной кожей, живыми, блестящими глазами, черными волосами и телом окутанным развевающимися покрывалами, обманчивыми и полупрозрачными, более соблазнительными, чем простая нагота. На груди, ногах и руках у них был род браслетов и амулетов, весело позванивавших при каждом движении, и они смотрели на гостей прямо, не выражая никакого смущения, как труппа, привыкшая к празднествам, переходя с пира на пир, и видевшая мужчин только в часы опьянения.
Начальник труппы был старик, с лицом обтянутым как бы пергаментом и дерзким взглядом, одетый так же, как танцовщицы, в женское платье, с нарумяненными щеками, глазами обведенными черными кругами, большими кольцами в ушах и циничной усмешкой на крашеных губах, готовый принять самое гнусное предложение.
Евфобий, равнодушный к прелестям танцовщиц, смотрел на него с восторгом, возбужденный сомнительностью его пола, который выдавали его худые руки, накрашенные белым и отягченные браслетами, просвечивавшими сквозь одежду.
– Брат, мужчина ты или женщина? – серьезно спросил его философ.
– Я отец всех этих цветков, – ответил евнух гнусливым голосом, обнажая свои беззубые десны.
Три из женщин, сидя на корточках, принялись потрясать бубны со звонкими колокольчиками, между тем как другие ударяли в тамбурин с выгнутой серединой, держа его за изогнутую ручку.
Евнух, стоя на пороге, стукнул палкой об пол, и четыре пары танцовщиц, выступив на середину триклиния, начали танцевать под шумную, примитивную музыку своих подруг. Они танцевали торжественно, двигаясь величественно, вытягивали руки, как бы плавая в пространстве, медленно поворачивая свое смуглое тело, как бы ныряя в прозрачных пенистых волнах своих одежд. Мало-помалу движения их ускорились; они слегка откидывались назад, выставляя свои упругие груди, причем их выпуклость обрисовывалась под легким покровом и вертелась на бедрах. Взмахи этих тел в белых развевающихся одеждах, взлетавших тысячью складок, в изгибах, полных неги, казалось, оживляли свет светильников.
Внезапно, по знаку старика, музыка замолкла, и танцовщицы остановились.
– Еще! Еще! – кричали гости, приподнимаясь на ложах, возбужденные танцами.
Это была остановка для перемены темпа и возбуждения коротким перерывом нетерпения зрителей. Музыка перешла в шумный, оживленный темп; старик, ударив жезлом об пол, издал протяжный вопль, печальный, приятный и страстный, какого никак нельзя было ожидать из такого отвратительного рта, и затем начал медленно-торжественно петь любовные строфы с двусмысленными словами, производившие действие возбуждающего средства и заставившие взреветь гостей.
Танцовщицы устремились на середину триклиниума в бешеном танце, как бы охваченные горячкой. Каждая песня была как бы бичом, возбуждавшим их нервы, и их голые ноги, коснувшись, подобно белоснежным птицам, мозаики пола, снова взлетали легким движением, приподнимая облака газа, открывшего красивую ногу, унизанную запястьями, издававшими серебристый звон. Их животы с мягкими округлостями, казалось, приобретали особую жизнь, и на вытянутых телах, в их священной неподвижности, они двигались как нервные животные, сокращаясь с круговыми содроганиями, образуя круговорот сладострастных изгибов, розовый центр которого составляли танцовщицы, сопровождавшие танец щелканьем пальцев. Спустив газ с плеч и укрепив его вокруг бедер, они производили полные неги движения вокруг амфор, вздыхая в истоме, наклонив голову, как бы замирая в созерцании собственной красоты. Музыка по временам ослабевала, будто удаляясь, и танцовщицы, сдвинув ступни и расставив ноги, медленно кружились спиралью, мягко колышась, едва касаясь земли, а затем быстро, от самой мозаики пола выпрямились, подобно развивающейся змее, между тем как бубны и тамбурины звучали громче, флейтистки возбуждали танцовщиц словами любви, восклицаниями экстаза, как будто они стояли перед смущающим воображение ложем.
Гости, раскрасневшиеся от волнения, со сверкающими глазами и нервными губами, бросились на середину триклиниума и прервали танец, смешавшись с танцовщицами. Евфобий храпел на полу. Сонника уже давно исчезла, покинув триклиниум, опираясь на рабыню, но не снимая головы с плеча Актеона.
Покрывала танцовщиц упали около стола. Они набросились на сладости и фрукты, пили из амфор и погружали головы в кратеру, поддерживаемую нимфами, чтобы потом, обернувшись, заливаться смехом, с лицом смоченным вином. Евнух продолжал петь, неистово стуча жезлом, чтобы указывать ритм своим музыкантам. Но напрасно: танцовщицы не могли пошевельнуться в руках гостей, захвативших их и срывавших с них одежду. Юноши валялись у подножия светильников, доведенные до исступления этими вакханками, выросшими в морском порту и посвященными моряками во все утонченности и всю испорченность целого света. Кельтибериец Алорко, грубый в своем восторге, ходил по триклиниуму вытянув руки и, хвастаясь своей силой, держал в могучих объятиях двух танцовщиц, громко взвизгивавших в испуге; а снаружи, в темноте перистиля, слышались шаги кухонных рабов и рабынь, собравшихся, чтобы издали полюбоваться зрелищем вакханалии.
Уже начало светать, когда Актеон, проснувшись, поднялся с мягкого душистого ложа в спальне. Сонника лежала рядом, и при свете светильника и занимающегося дня он видел улыбку блаженства на ее устах.
Афинянин чувствовал после ночного опьянения непреодолимую потребность свежего воздуха. Он задыхался в жилище Сонники, спешил покинуть это ложе, казалось, еще горевшее огнем недавних восторгов опьянения страстью, после которых тело оставалось неподвижным и жизнь его проявлялась только в тихих вздохах, поднимавших грудь.
Грек осторожно, на цыпочках вышел в перистиль. Светильники еще горели в триклиниуме, и из его дверей шел нестерпимый запах мяса, вина и потных тел. Актеон увидел гостей, лежавших на полу между женщинами, храпевшими, обнажая при перемене положения самую сокровенную наготу. Евфобий отрезвился и, занимая почетное место – ложе Сонники, воображал себя хозяином дома. Закутавшись в свой старый плащ, он приказывал танцевать двум сонным танцовщицам, глядя с презрением на их наготу, как человек, стоящий выше плотских желаний.
При приближении Актеона несколько рабов побежали прочь, опасаясь наказания за свое любопытство. Не желая, чтобы философ увидел его, грек вышел из дома в прохладный сад. И здесь он увидел перед собой бегство. По аллеям бежали обнявшиеся пары; в густой листве раздавались вскрикивания застигнутых врасплох, и сад казался оживленным таинственной жизнью, как будто в тени, царившей под его густолистными кустами, скрывалось целое племя, предававшееся любви.
То были рабы, которые, возбужденные видом пира, продолжали под открытым небом сцены, разыгрывавшиеся в триклиниуме.
Грек улыбнулся, думая, что праздник еще увеличит новыми рабами богатство хозяйки дома.
Пусть наслаждаются в мире. Помешать – значило бы вредить Соннике.
Он прошел огромные владения куртизанки, фиговые рощи, большие масленичные плантации и вышел на Змеиную дорогу. Кто-то ехал по ней. Вдали слышался лошадиный топот, и Актеон увидел при голубоватом свете занимавшегося утра всадника, без сомнения, направлявшегося к воротам.
Когда он подъехал, афинянин сразу узнал его, несмотря на то что его голова была покрыта капюшоном. Это был кельтиберийский пастух. Грек бросился к лошади и схватил ее под уздцы, между тем как всадник, задержанный в пути, откинулся назад и выхватил кинжал из кожаных ножен за поясом.
– Брось! – тихо сказал Актеон. – Я остановил тебя потому, что ты мне знаком. Ты Ганнибал, сын великого Гамилькара. Ты можешь скрываться под маской от сагунтинцев; твой же друг детства всегда узнает тебя.
Африканец приблизил голову, покрытую густыми волосами, и его зоркие глаза в полумраке узнали грека.
– Это ты, Актеон? Встречая тебя вчера столько раз, я знал, что ты наконец узнаешь меня. Что ты тут делаешь?
– Живу в доме богачки Сонники.
– Я слыхал о ней: это гречанка, известная своей красотой и талантами афинской куртизанки. Мне хотелось бы познакомиться с ней, и думаю, я полюбил бы ее, если бы задачей мужчин было вращаться среди женщин. У тебя нет другого дела?
– Я воин по найму у города.
– Ты?… Сын Лизастра, доверенного вождя Гамилькара? Человек, воспитанный в Афинах, на службе у варварского и купеческого города!..
Он помолчал, как бы изумленный поведением грека, и продолжал решительно:
– Садись на лошадь позади меня. Поедем ко мне. В порту меня ждет карфагенский корабль с грузом серебра. Я отправляюсь в Новый Карфаген, чтобы стать во главе своих соотечественников. Дни славы приближаются, начинается чудное смелое предприятие, как предприятие гигантов, нагромоздивших горы, чтобы взобраться на ваш Олимп. Поедем со мной: ты друг моего детства, я знал тебя раньше, чем Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара, данных мне славным полководцем в братья. Он называл нас «тремя львятами». Я знаю тебя: ты ловок и храбр, как твой отец. Со мной ты наживешь богатство. Может быть, сделаешься царем какой-нибудь прекрасной страны, когда я, следуя примеру Александра, поделю между моими полководцами свои завоевания.
– Нет, карфагенянин, – ответил серьезно Актеон. – Я не презираю тебя и с удовольствием вспоминаю о наших первых годах жизни, но не поеду с тобой. Против этого твое происхождение, прошлое твоего народа, окровавленная тень моего отца.
– Происхождение – воображение; народ только предлог для начала войны. Не все ли равно тебе – служить Карфагену или другой республике, если ты грек? Если бы мои соплеменники покинули меня, я отправился бы в какую-нибудь другую страну. Мы – люди войны, мы сражаемся ради славы, ради могущества и богатства; нужды нашего народа только служат для оправдания наших побед и грабежа наших врагов. Я ненавижу карфагенских купцов, мирных и приникших к своим лавкам, а также и высокомерных римлян. Едем, Актеон; раз мы встретились, последуй за мной: счастье мне сопутствует.
– Нет, Ганнибал, оставь меня здесь. Увидев твоих африканских солдат, я вспомню чернь, распявшую Лизастра.
– Преступление было неминуемо: безумие беспощадной войны, на которую нас вызвали наемники. Отец мой не раз сокрушался об этом, вспоминая своего верного Лизастра. Я постараюсь исправить несправедливости Карфагена.
– Я не последую за тобой. Я простился с войной и грабежом. Я предпочитаю жить здесь тихой и спокойной жизнью со своей Сонникой, любящей мир, как любой сагунтинец, живущий в коммерческом квартале.
– Мир!.. Мир!..
И тихая дорога огласилась резким и грубым хохотом, который Актеон слышал на ступенях храма Афродиты, когда римские послы садились на суда.
– Слушай хорошенько, Актеон, – сказал африканец, снова возвращаясь к своей серьезности, – доказательством того, что я сохранил воспоминание о нашей детской дружбе, служит откровенность, с которой я сообщаю тебе мои мысли. Пойми – только тебе!.. Если бы во время сна в моей палатке у меня вырвалось одно слово о том, что я думаю, я бы заколол стражника, охраняющего мой сон… Ты говоришь о мире!.. Проснись, Актеон! Если хочешь найти где-нибудь мир, отправляйся с этой гречанкой, которую любишь, далеко… далеко… Там, где я, ты не найдешь спокойствия, пока я не стану повелителем мира. Война следует за мной по пятам, кто не подчиняется мне, тот должен умереть или стать моим рабом.
Грек понял угрозу, заключавшуюся в этих словах.
– Вспомни, Ганнибал, что этот город все равно что Рим. Он союзник республики, и она покровительствует ему.
– Ты думаешь, я боюсь Рима?… Я ненавижу Сагунт за то, что он кичится своим союзом, а меня презирает и забывает, хотя я здесь. Он делает вид, что спокоен, потому что ему покровительствует эта отдаленная республика, и относится с насмешкой ко мне, хотя я царствую над всеми полуостровами до самого Эбро и стою, так сказать, у ворот Сагунта. Он враждует с турдетанцами, моими союзниками, как все иберийские племена, и в своих стенах обезглавливает любящих меня горожан, друзей великого Гамилькара… О, слепой и надменный город! Дорого тебе обойдется, что в тебе живет Ганнибал, и ты его не знаешь!..
Обернувшись на седле, он с угрозой смотрел на Акрополь Сагунта, обрисовывавшийся в предрассветном тумане.
– Рим устремится на тебя, как скоро ты нападешь на его союзника.
– Пусть себе! – вызывающе воскликнул африканец. – Этого я именно и желаю. Мир тяготит меня: не могу я привыкнуть к мысли о порабощении Карфагена, пока существуют такие люди, как я и мои друзья. О Рим! О Африка! Пусть же наступит скорей последнее столкновение, высшее напряжение, и пусть станет господином мира народ, который устоит на ногах… Я ненавижу богачей своей страны, живущих беспечально, забывая позор поражения, потому что они могут спокойно торговать и набивать свои подвалы серебром. Эти негодяи после наших поражений в Сицилии задумали было покинуть Карфаген и переселиться на острова Великого моря, чтобы жить в покое. Это настоящие карфагеняне-финикияне, не знающие другой славы, кроме меновой торговли, других стремлений, кроме открытия новых гаваней для сбыта своих товаров. Мы, семья Барка, – ливийцы: мы потомки богов; у нас, как у них, широкий горизонт мысли; мы стремимся или повелевать, или умереть… Эти купцы не понимают, что недостаточно быть богатым; что необходимо господствовать и внушать страх; они образуют в Карфагене партию мира, отравившую жизнь моего отца своим сопротивлением и меня поставившую особняком, без помощи, кроме той, какую я могу достать себе на полуострове. Они не понимают, почему Барки стремятся к мировому могуществу Карфагена. Отец в потере Сицилии видел смерть для нашего народа и пытался спасти его. Мы лишились большой части нашей древней торговли: нам нужно было войско для защиты против римского честолюбия, а войска у нас не было. Граждане Карфагена годятся для того, чтобы воевать в своих землях. Коммерсанту в тягость оружие, и он не выносит походов в продолжение целых месяцев и даже лет во враждебных странах. Им легче получать прибыль путем торговли, чем добывать добычу кровью, и так как они любят деньги, то неохотно платят иностранным солдатам. Ради денег Гамилькар привел нас на полуостровки мы открыли карфагенянам новые гавани и рынки, а Барки содержат войско, набранное ими самими. Мы не обращаем внимания на то, что в карфагенском сенате друзья мира отказывают нам в доставке солдат. Иберийские племена любили моего отца, узнав на деле его энергию, и они возьмутся за оружие по призыву Барков против врага, которого мы им укажем.
И Ганнибал взглянул на далекие горы, будто видя в них бесчисленные варварские народы, жившие там, занимаясь земледелием или скотоводством.
– Гамилькар пал, – продолжал он грустно, – собираясь осуществить свои мечты: собрать большое войско, чтобы вступить в борьбу с Римом и употребить собственные богатства для поддержания войны, не прибегая к помощи африканских купцов. Газдрубал, красавец-муж моей сестры, потратил на это восемь лет. Он был хороший правитель, но плохой полководец. На этот раз Ваал, наш жестокий бог, руководил рукой его убийцы, чтобы ему наследовали другие, способные уничтожить вечного врага Карфагена… И это сделаю я, слышишь, грек? Тебе первому я открываю свои мысли. Пришла минута дать решительную битву. Рим скоро узнает, что существует Ганнибал, который пошлет ему вызов, овладев Сагунтом.
– Это тебе будет трудно, африканец. Сагунт силен, и я, приехавший из Нового Карфагена, видел там только слонов, остатки войска твоего отца и нумидийских всадников, посланных вашими друзьями из Африки.
В перистиле раздался звук шагов, смех и шепот, и в триклиниум, как непослушное стадо, вступили гадесские танцовщицы.
Это были девушки невысокого роста, со стройными гибкими членами, со светло-янтарной кожей, живыми, блестящими глазами, черными волосами и телом окутанным развевающимися покрывалами, обманчивыми и полупрозрачными, более соблазнительными, чем простая нагота. На груди, ногах и руках у них был род браслетов и амулетов, весело позванивавших при каждом движении, и они смотрели на гостей прямо, не выражая никакого смущения, как труппа, привыкшая к празднествам, переходя с пира на пир, и видевшая мужчин только в часы опьянения.
Начальник труппы был старик, с лицом обтянутым как бы пергаментом и дерзким взглядом, одетый так же, как танцовщицы, в женское платье, с нарумяненными щеками, глазами обведенными черными кругами, большими кольцами в ушах и циничной усмешкой на крашеных губах, готовый принять самое гнусное предложение.
Евфобий, равнодушный к прелестям танцовщиц, смотрел на него с восторгом, возбужденный сомнительностью его пола, который выдавали его худые руки, накрашенные белым и отягченные браслетами, просвечивавшими сквозь одежду.
– Брат, мужчина ты или женщина? – серьезно спросил его философ.
– Я отец всех этих цветков, – ответил евнух гнусливым голосом, обнажая свои беззубые десны.
Три из женщин, сидя на корточках, принялись потрясать бубны со звонкими колокольчиками, между тем как другие ударяли в тамбурин с выгнутой серединой, держа его за изогнутую ручку.
Евнух, стоя на пороге, стукнул палкой об пол, и четыре пары танцовщиц, выступив на середину триклиния, начали танцевать под шумную, примитивную музыку своих подруг. Они танцевали торжественно, двигаясь величественно, вытягивали руки, как бы плавая в пространстве, медленно поворачивая свое смуглое тело, как бы ныряя в прозрачных пенистых волнах своих одежд. Мало-помалу движения их ускорились; они слегка откидывались назад, выставляя свои упругие груди, причем их выпуклость обрисовывалась под легким покровом и вертелась на бедрах. Взмахи этих тел в белых развевающихся одеждах, взлетавших тысячью складок, в изгибах, полных неги, казалось, оживляли свет светильников.
Внезапно, по знаку старика, музыка замолкла, и танцовщицы остановились.
– Еще! Еще! – кричали гости, приподнимаясь на ложах, возбужденные танцами.
Это была остановка для перемены темпа и возбуждения коротким перерывом нетерпения зрителей. Музыка перешла в шумный, оживленный темп; старик, ударив жезлом об пол, издал протяжный вопль, печальный, приятный и страстный, какого никак нельзя было ожидать из такого отвратительного рта, и затем начал медленно-торжественно петь любовные строфы с двусмысленными словами, производившие действие возбуждающего средства и заставившие взреветь гостей.
Танцовщицы устремились на середину триклиниума в бешеном танце, как бы охваченные горячкой. Каждая песня была как бы бичом, возбуждавшим их нервы, и их голые ноги, коснувшись, подобно белоснежным птицам, мозаики пола, снова взлетали легким движением, приподнимая облака газа, открывшего красивую ногу, унизанную запястьями, издававшими серебристый звон. Их животы с мягкими округлостями, казалось, приобретали особую жизнь, и на вытянутых телах, в их священной неподвижности, они двигались как нервные животные, сокращаясь с круговыми содроганиями, образуя круговорот сладострастных изгибов, розовый центр которого составляли танцовщицы, сопровождавшие танец щелканьем пальцев. Спустив газ с плеч и укрепив его вокруг бедер, они производили полные неги движения вокруг амфор, вздыхая в истоме, наклонив голову, как бы замирая в созерцании собственной красоты. Музыка по временам ослабевала, будто удаляясь, и танцовщицы, сдвинув ступни и расставив ноги, медленно кружились спиралью, мягко колышась, едва касаясь земли, а затем быстро, от самой мозаики пола выпрямились, подобно развивающейся змее, между тем как бубны и тамбурины звучали громче, флейтистки возбуждали танцовщиц словами любви, восклицаниями экстаза, как будто они стояли перед смущающим воображение ложем.
Гости, раскрасневшиеся от волнения, со сверкающими глазами и нервными губами, бросились на середину триклиниума и прервали танец, смешавшись с танцовщицами. Евфобий храпел на полу. Сонника уже давно исчезла, покинув триклиниум, опираясь на рабыню, но не снимая головы с плеча Актеона.
Покрывала танцовщиц упали около стола. Они набросились на сладости и фрукты, пили из амфор и погружали головы в кратеру, поддерживаемую нимфами, чтобы потом, обернувшись, заливаться смехом, с лицом смоченным вином. Евнух продолжал петь, неистово стуча жезлом, чтобы указывать ритм своим музыкантам. Но напрасно: танцовщицы не могли пошевельнуться в руках гостей, захвативших их и срывавших с них одежду. Юноши валялись у подножия светильников, доведенные до исступления этими вакханками, выросшими в морском порту и посвященными моряками во все утонченности и всю испорченность целого света. Кельтибериец Алорко, грубый в своем восторге, ходил по триклиниуму вытянув руки и, хвастаясь своей силой, держал в могучих объятиях двух танцовщиц, громко взвизгивавших в испуге; а снаружи, в темноте перистиля, слышались шаги кухонных рабов и рабынь, собравшихся, чтобы издали полюбоваться зрелищем вакханалии.
Уже начало светать, когда Актеон, проснувшись, поднялся с мягкого душистого ложа в спальне. Сонника лежала рядом, и при свете светильника и занимающегося дня он видел улыбку блаженства на ее устах.
Афинянин чувствовал после ночного опьянения непреодолимую потребность свежего воздуха. Он задыхался в жилище Сонники, спешил покинуть это ложе, казалось, еще горевшее огнем недавних восторгов опьянения страстью, после которых тело оставалось неподвижным и жизнь его проявлялась только в тихих вздохах, поднимавших грудь.
Грек осторожно, на цыпочках вышел в перистиль. Светильники еще горели в триклиниуме, и из его дверей шел нестерпимый запах мяса, вина и потных тел. Актеон увидел гостей, лежавших на полу между женщинами, храпевшими, обнажая при перемене положения самую сокровенную наготу. Евфобий отрезвился и, занимая почетное место – ложе Сонники, воображал себя хозяином дома. Закутавшись в свой старый плащ, он приказывал танцевать двум сонным танцовщицам, глядя с презрением на их наготу, как человек, стоящий выше плотских желаний.
При приближении Актеона несколько рабов побежали прочь, опасаясь наказания за свое любопытство. Не желая, чтобы философ увидел его, грек вышел из дома в прохладный сад. И здесь он увидел перед собой бегство. По аллеям бежали обнявшиеся пары; в густой листве раздавались вскрикивания застигнутых врасплох, и сад казался оживленным таинственной жизнью, как будто в тени, царившей под его густолистными кустами, скрывалось целое племя, предававшееся любви.
То были рабы, которые, возбужденные видом пира, продолжали под открытым небом сцены, разыгрывавшиеся в триклиниуме.
Грек улыбнулся, думая, что праздник еще увеличит новыми рабами богатство хозяйки дома.
Пусть наслаждаются в мире. Помешать – значило бы вредить Соннике.
Он прошел огромные владения куртизанки, фиговые рощи, большие масленичные плантации и вышел на Змеиную дорогу. Кто-то ехал по ней. Вдали слышался лошадиный топот, и Актеон увидел при голубоватом свете занимавшегося утра всадника, без сомнения, направлявшегося к воротам.
Когда он подъехал, афинянин сразу узнал его, несмотря на то что его голова была покрыта капюшоном. Это был кельтиберийский пастух. Грек бросился к лошади и схватил ее под уздцы, между тем как всадник, задержанный в пути, откинулся назад и выхватил кинжал из кожаных ножен за поясом.
– Брось! – тихо сказал Актеон. – Я остановил тебя потому, что ты мне знаком. Ты Ганнибал, сын великого Гамилькара. Ты можешь скрываться под маской от сагунтинцев; твой же друг детства всегда узнает тебя.
Африканец приблизил голову, покрытую густыми волосами, и его зоркие глаза в полумраке узнали грека.
– Это ты, Актеон? Встречая тебя вчера столько раз, я знал, что ты наконец узнаешь меня. Что ты тут делаешь?
– Живу в доме богачки Сонники.
– Я слыхал о ней: это гречанка, известная своей красотой и талантами афинской куртизанки. Мне хотелось бы познакомиться с ней, и думаю, я полюбил бы ее, если бы задачей мужчин было вращаться среди женщин. У тебя нет другого дела?
– Я воин по найму у города.
– Ты?… Сын Лизастра, доверенного вождя Гамилькара? Человек, воспитанный в Афинах, на службе у варварского и купеческого города!..
Он помолчал, как бы изумленный поведением грека, и продолжал решительно:
– Садись на лошадь позади меня. Поедем ко мне. В порту меня ждет карфагенский корабль с грузом серебра. Я отправляюсь в Новый Карфаген, чтобы стать во главе своих соотечественников. Дни славы приближаются, начинается чудное смелое предприятие, как предприятие гигантов, нагромоздивших горы, чтобы взобраться на ваш Олимп. Поедем со мной: ты друг моего детства, я знал тебя раньше, чем Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара, данных мне славным полководцем в братья. Он называл нас «тремя львятами». Я знаю тебя: ты ловок и храбр, как твой отец. Со мной ты наживешь богатство. Может быть, сделаешься царем какой-нибудь прекрасной страны, когда я, следуя примеру Александра, поделю между моими полководцами свои завоевания.
– Нет, карфагенянин, – ответил серьезно Актеон. – Я не презираю тебя и с удовольствием вспоминаю о наших первых годах жизни, но не поеду с тобой. Против этого твое происхождение, прошлое твоего народа, окровавленная тень моего отца.
– Происхождение – воображение; народ только предлог для начала войны. Не все ли равно тебе – служить Карфагену или другой республике, если ты грек? Если бы мои соплеменники покинули меня, я отправился бы в какую-нибудь другую страну. Мы – люди войны, мы сражаемся ради славы, ради могущества и богатства; нужды нашего народа только служат для оправдания наших побед и грабежа наших врагов. Я ненавижу карфагенских купцов, мирных и приникших к своим лавкам, а также и высокомерных римлян. Едем, Актеон; раз мы встретились, последуй за мной: счастье мне сопутствует.
– Нет, Ганнибал, оставь меня здесь. Увидев твоих африканских солдат, я вспомню чернь, распявшую Лизастра.
– Преступление было неминуемо: безумие беспощадной войны, на которую нас вызвали наемники. Отец мой не раз сокрушался об этом, вспоминая своего верного Лизастра. Я постараюсь исправить несправедливости Карфагена.
– Я не последую за тобой. Я простился с войной и грабежом. Я предпочитаю жить здесь тихой и спокойной жизнью со своей Сонникой, любящей мир, как любой сагунтинец, живущий в коммерческом квартале.
– Мир!.. Мир!..
И тихая дорога огласилась резким и грубым хохотом, который Актеон слышал на ступенях храма Афродиты, когда римские послы садились на суда.
– Слушай хорошенько, Актеон, – сказал африканец, снова возвращаясь к своей серьезности, – доказательством того, что я сохранил воспоминание о нашей детской дружбе, служит откровенность, с которой я сообщаю тебе мои мысли. Пойми – только тебе!.. Если бы во время сна в моей палатке у меня вырвалось одно слово о том, что я думаю, я бы заколол стражника, охраняющего мой сон… Ты говоришь о мире!.. Проснись, Актеон! Если хочешь найти где-нибудь мир, отправляйся с этой гречанкой, которую любишь, далеко… далеко… Там, где я, ты не найдешь спокойствия, пока я не стану повелителем мира. Война следует за мной по пятам, кто не подчиняется мне, тот должен умереть или стать моим рабом.
Грек понял угрозу, заключавшуюся в этих словах.
– Вспомни, Ганнибал, что этот город все равно что Рим. Он союзник республики, и она покровительствует ему.
– Ты думаешь, я боюсь Рима?… Я ненавижу Сагунт за то, что он кичится своим союзом, а меня презирает и забывает, хотя я здесь. Он делает вид, что спокоен, потому что ему покровительствует эта отдаленная республика, и относится с насмешкой ко мне, хотя я царствую над всеми полуостровами до самого Эбро и стою, так сказать, у ворот Сагунта. Он враждует с турдетанцами, моими союзниками, как все иберийские племена, и в своих стенах обезглавливает любящих меня горожан, друзей великого Гамилькара… О, слепой и надменный город! Дорого тебе обойдется, что в тебе живет Ганнибал, и ты его не знаешь!..
Обернувшись на седле, он с угрозой смотрел на Акрополь Сагунта, обрисовывавшийся в предрассветном тумане.
– Рим устремится на тебя, как скоро ты нападешь на его союзника.
– Пусть себе! – вызывающе воскликнул африканец. – Этого я именно и желаю. Мир тяготит меня: не могу я привыкнуть к мысли о порабощении Карфагена, пока существуют такие люди, как я и мои друзья. О Рим! О Африка! Пусть же наступит скорей последнее столкновение, высшее напряжение, и пусть станет господином мира народ, который устоит на ногах… Я ненавижу богачей своей страны, живущих беспечально, забывая позор поражения, потому что они могут спокойно торговать и набивать свои подвалы серебром. Эти негодяи после наших поражений в Сицилии задумали было покинуть Карфаген и переселиться на острова Великого моря, чтобы жить в покое. Это настоящие карфагеняне-финикияне, не знающие другой славы, кроме меновой торговли, других стремлений, кроме открытия новых гаваней для сбыта своих товаров. Мы, семья Барка, – ливийцы: мы потомки богов; у нас, как у них, широкий горизонт мысли; мы стремимся или повелевать, или умереть… Эти купцы не понимают, что недостаточно быть богатым; что необходимо господствовать и внушать страх; они образуют в Карфагене партию мира, отравившую жизнь моего отца своим сопротивлением и меня поставившую особняком, без помощи, кроме той, какую я могу достать себе на полуострове. Они не понимают, почему Барки стремятся к мировому могуществу Карфагена. Отец в потере Сицилии видел смерть для нашего народа и пытался спасти его. Мы лишились большой части нашей древней торговли: нам нужно было войско для защиты против римского честолюбия, а войска у нас не было. Граждане Карфагена годятся для того, чтобы воевать в своих землях. Коммерсанту в тягость оружие, и он не выносит походов в продолжение целых месяцев и даже лет во враждебных странах. Им легче получать прибыль путем торговли, чем добывать добычу кровью, и так как они любят деньги, то неохотно платят иностранным солдатам. Ради денег Гамилькар привел нас на полуостровки мы открыли карфагенянам новые гавани и рынки, а Барки содержат войско, набранное ими самими. Мы не обращаем внимания на то, что в карфагенском сенате друзья мира отказывают нам в доставке солдат. Иберийские племена любили моего отца, узнав на деле его энергию, и они возьмутся за оружие по призыву Барков против врага, которого мы им укажем.
И Ганнибал взглянул на далекие горы, будто видя в них бесчисленные варварские народы, жившие там, занимаясь земледелием или скотоводством.
– Гамилькар пал, – продолжал он грустно, – собираясь осуществить свои мечты: собрать большое войско, чтобы вступить в борьбу с Римом и употребить собственные богатства для поддержания войны, не прибегая к помощи африканских купцов. Газдрубал, красавец-муж моей сестры, потратил на это восемь лет. Он был хороший правитель, но плохой полководец. На этот раз Ваал, наш жестокий бог, руководил рукой его убийцы, чтобы ему наследовали другие, способные уничтожить вечного врага Карфагена… И это сделаю я, слышишь, грек? Тебе первому я открываю свои мысли. Пришла минута дать решительную битву. Рим скоро узнает, что существует Ганнибал, который пошлет ему вызов, овладев Сагунтом.
– Это тебе будет трудно, африканец. Сагунт силен, и я, приехавший из Нового Карфагена, видел там только слонов, остатки войска твоего отца и нумидийских всадников, посланных вашими друзьями из Африки.