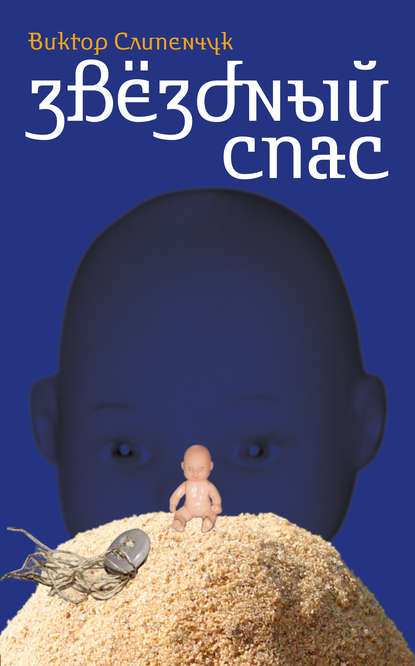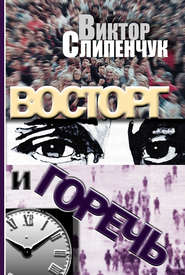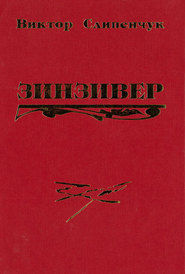По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звёздный Спас
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 6
Остальное – дома, сказала бабушка. Однако услышанное в леске разве можно так просто забыть или выбросить из головы, если оно уже в сердце?! Смерть деда, его приход во сне вместе с Флорентием Солунянином, обещание ждать бабушку и весть о новом небе, о каком-то Звёздном Ребёнке, точнее, о времени Звёздного Ребёнка, которого «в миру» называют индиго. Что всё это значит? Нет-нет, такое не выбросить из головы.
– Бабушка, а где похоронили деда?
– Известно где, на погосте, за деревней Рождествено, рядом с церквушкой, сам батюшка побеспокоился.
– Выходит, всё по слову ангела вышло.
– Именно, именно – и душегубы приезжали, повинились. Ох! – горестно вскрикнула бабушка.
До самой калитки они шли молча, потом Фива спросила:
– О каком Звёздном Ребёнке индиго говорил дед?
В ответ бабушка приостановилась и с такой проницательностью взглянула на Фиву, что Фива, невольно потупившись, покраснела. (Ей показалось, что бабушка знает про Кешу.) Потом, неожиданно даже для себя, рассмеялась. (Она попыталась представить его Звёздным Ребёнком, но не смогла.)
Бабушка уловила бурю чувств в душе внучки, пряча улыбку, отворила калитку.
– Об том мы поговорим после.
Они вошли во двор, и сердце Фивы радостно затрепетало. Всё здесь ей нравилось. И высокое крыльцо с навесом, огороженное низкими широкими перилами, на которых можно было посидеть с бабушкой. И летняя кухня, и банька с поленницей дров. И сараюшка с живностью – козой и курами. И примыкающий к сараюшке небольшой сеновал. Но больше всего ей нравились стол под берёзами, яблоневый сад и новый омшаник в саду. Даже не омшаник, а петляющая тропинка к нему. Летом вся в зарослях смородины и малины. А зимой – в высоких сугробах снега, круто срезанных по краям, так, что, казалось, идёшь и не по тропинке вовсе, а по запутанному лабиринту, ведущему либо в логово чудовища, либо в сказочный дворец.
Возле калитки снег был расчищен, но не полностью, а ограниченным и как бы вытоптанным пятачком. Те же пятачки у крыльца, летней кухни и за оградой денника – у сараюшки. Всё остальное пространство – царство снега и белизны. Причём такое, что уже и расчищенные пятачки воспринимались как неуместные – нарушали гармонию заповедной нетронутости. В особенности бросились в глаза толстый пуховик снега на столе, под берёзами, и змеистый след от валенок к омшанику. Фива вдруг остро почувствовала, что нет дедушки, навсегда нет, – спросила:
– А где у нас лопаты – за летней кухней?
Кивнув, бабушка осторожно поднялась на крыльцо и, присев на перила, стала отговаривать внучку, мол, поздно уже, сама потом всё расчистит. А для Фивочки есть радостное сообщение. Именно сообщение вынудило её каждый день ходить на вокзал.
Фива духом воспрянула, но от решения не отказалась – до темна ещё сколь? Успеет. Да на снегу и не бывает темно. А радостное сообщение пусть до ужина прибережёт. У неё тоже есть кое-что для бабушки.
В общем, сменила полушубок на телогрейку (всё остальное обмундирование на ней оказалось как нельзя кстати) и опять – на улицу. Конечно, бабушка – за ней. Но Фива назад отправила, пусть приготовит настоянный на травах чай, который в городе ей иногда даже снится.
Фива трудилась без устали более часа. Бабушка, выглядывая в окошко, только диву давалась – какая силища в ней. Всё убрала, всё расчистила, а главное – дорожку пробила к омшанику, да такую змеистую, словно сам дед помогал ей. Когда бабушка вышла принять работу, первое, что сказала Фива:
– Уж и не знаю, но сдаётся мне, что дед был бы доволен.
Запыхавшаяся, раскрасневшаяся, она так весело засмеялась, что и бабушка в ответ зарделась, отдала палку и, словно лебёдушка, легко проплыла по дорожке взад-вперёд. И заверила:
– Непременно, непременно – Флорушка доволен!
И опять, как при встрече на вокзале, Фива удивилась бабушкиному умению превращаться из одной, ей известной бабушки в другую, хотя и узнаваемую, но совершенно неизвестную. Но больше всего её поразило, что бабушка не воспринимает деда умершим – он для неё живой, находящийся рядом. Когда примеряла просторный платок, сказала, смотрясь в зеркало:
– Ну что, дед, насмотрелся – доволен подарком внученьки? А уж как я, старая, довольна – тому и слов нет!
Подошла к Фиве, обняла и поцеловала.
А потом они ужинали. Еда была весьма скромной: гречневая каша с квашеной капустой и ржаным хлебом и чай со смородинным листом и малиновым вареньем. В общем, как раз такой, какою и должна быть в строгий пост.
Затем лепили рождественские пельмени. Что это за прелесть – лепить пельмени и разговоры разговаривать, отдаляя и отдаляя радостную весть, которая уже в каждом предмете и в самом окружающем воздухе наступающего Рождественского сочельника!
Наконец и с пельменями покончили. На широких фанерках Фива вынесла их в летнюю кухню, чтобы за ночь прихватило морозцем. А когда вошла в избу, почувствовала запах леса и родника в знойный полдень. Бабушка стояла на табуретке и заглядывала за икону Божией Матери, точнее, запустила руку за празднично вышитый рушник, в который она была наряжена. Ещё бабушка ничего не сказала, а Фива уже чутьём поняла – цветок, колокольчик. Бабушка осторожно слезла с табуретки.
– Вот тебе весть от ангела Флора, тёзки мово Флорушки.
Протянула белый цветик-семицветик с розоватым пестиком и золотыми тычинками внутри. Так сказать, преподнесла.
– Лежал себе, лежал сухой былиночкой. А это, как раз перед Новым годом, протирала икону Царицы Небесной – слышу, духмяным горошком повеяло, будто из родникового леска. Запустила руку за рушник – вот оно в чём дело! Объявился у нашей Фивы Иван-царевич, добрый молодец.
Взяла Фива лесной цветок и засмеялась всем своим существом, всем своим сознанием.
– Не Иван-царевич, а Иннокентий – Кеша.
Понюхала цветок, а он в её руках ещё сильнее и вольнее заблагоухал, словно и не зима, и не ночь вокруг, а знойный летний полдень.
Пока любовалась колокольчиком и ставила его в кефирную бутылку, бабушка легла отдыхать. А когда подвинула цветик-семицветик к своему изголовью, словно светом голубых зарниц озарилась горница – кристаллы мерцающих звёзд вспыхнули в воздухе. Фива услышала далёкий-далёкий серебряный звон – услышала и тут же уснула.
Глава 7
Задуматься было о чём.
Неистребимая тысячерублёвая банкнота в энциклопедическом словаре, которую дважды «потратил»: на апельсины и шампанское для Фифочки, а ещё прежде одолжил хозяину квартиры Никодиму Амвросиевичу. Давнишнее происшествие с новогодними апельсинами, перетянутыми красной нитью крест-накрест. Синеглазая девочка из прекрасной страны зелёных холмов. Странный сон или сны, в конце концов обернувшиеся для него потерей одного вполне реального дня, а для лаборатории – ещё и потерей дорогостоящего электронного оборудования. В общем, задуматься было о чём.
Он невольно взглянул на экраны почерневших мониторов, на обуглившиеся пучки проводов, на спёкшиеся в коричневые оладьи полимерные трубочки, но не почувствовал ни страха, ни сожаления – ничего. Перед масштабами стихийного бедствия, вызванного цунами и унёсшего тысячи человеческих жизней, всё это выглядело несущественным.
Внезапно зазвонил дверной звонок. Прежде обезьянки всегда реагировали на него, а в этот раз будто не услышали. Только с появлением обслуживающего персонала (двух мужчин и одной женщины в тёмно-зелёных халатах) подняли обычный ор, почуяли, что их забирают на ужин.
Воспользовавшись сумятицей, вызванной перемещением макак в обезьянник, подошёл Зоро и сунул Кеше вчетверо сложенный лист бумаги.
Кеша не торопясь развернул его, на нём на всю страницу были запечатлены они с Фивой, причём в обнимку. Снимок был чёрно-белым и весьма слабо пропечатанным, словно его напечатали на принтере с выработанным картриджем. И всё же изображение было достаточно отчётливым, чтобы узнать их. Он стоял вполоборота, его лица почти не было видно, зато лицо Фивы, обрамлённое вязаной шапочкой, было видно вполне. Какая она красивая, невольно подумал Кеша и строго спросил:
– Где ты взял это?
Зоро указал стол, возле которого он поднял лист. Прямо над ним возвышались главный компьютер и электромагнитор, преобразователь магнитных полей, названный ими в честь писателя-фантаста Толкина Властелином колец.
Кеша узнал торец стола – возле него стояла клетка с обезьянкой из контрольной группы, к которой во сне подвёл его Богдан Бонифатьевич. А потом Фива оперлась о Кешино плечо, и все разом вскрикнули: кирдык приборам – сгорели. В ответ Кеша крепко-крепко обнял Фифочку и в потрясении проснулся, потому что обезьянка вдруг стала напевать: «Фифа, Фифочка моя! Фифа, Фифочка, я – твой!»
Кеша молча спрятал изображение во внутренний карман пиджака. Встал. И, захватив чистый лист бумаги (прежде на нём было исчезнувшее письмо Богдана Бонифатьевича), подошёл к столу, на который указал Зоро, и недолго думая положил его на край стола, придавив рукой. И сразу же на листе выступили уже известные строчки руководителя лаборатории, рекомендовавшего Кеше немедленно явиться на кафедру.
– Как это?! – удивился Зоро.
Неожиданно у них за спиной вырос охранник в жилете, потребовал письмо. Кеша, не возражая, отдал, заметив, что письмо сугубо личное.
– Сугубо личные письма мы возвращаем, – парировал охранник и поторопил их – уже все вышли в коридор, а они мешают обслуживающему персоналу вывозить из лаборатории подопытных животных.
Слово «животных» резануло слух. В применении к столь милым и маленьким существам оно воспринималось неотёсанно грубым, но Кеша воздержался от каких бы то ни было замечаний, промолчал. Он не хотел раздражать охранников, более того, побаивался какой-нибудь неосторожностью навлечь на себя их гнев и таким образом подставить Фиву. Ведь её изображение на фоне лаборатории находится не где-нибудь, а у него в кармане. Вдруг его пропустят через сканер, умеющий всё считывать?
В коридоре, как только уединились, Зоро напустился на Кешу:
Остальное – дома, сказала бабушка. Однако услышанное в леске разве можно так просто забыть или выбросить из головы, если оно уже в сердце?! Смерть деда, его приход во сне вместе с Флорентием Солунянином, обещание ждать бабушку и весть о новом небе, о каком-то Звёздном Ребёнке, точнее, о времени Звёздного Ребёнка, которого «в миру» называют индиго. Что всё это значит? Нет-нет, такое не выбросить из головы.
– Бабушка, а где похоронили деда?
– Известно где, на погосте, за деревней Рождествено, рядом с церквушкой, сам батюшка побеспокоился.
– Выходит, всё по слову ангела вышло.
– Именно, именно – и душегубы приезжали, повинились. Ох! – горестно вскрикнула бабушка.
До самой калитки они шли молча, потом Фива спросила:
– О каком Звёздном Ребёнке индиго говорил дед?
В ответ бабушка приостановилась и с такой проницательностью взглянула на Фиву, что Фива, невольно потупившись, покраснела. (Ей показалось, что бабушка знает про Кешу.) Потом, неожиданно даже для себя, рассмеялась. (Она попыталась представить его Звёздным Ребёнком, но не смогла.)
Бабушка уловила бурю чувств в душе внучки, пряча улыбку, отворила калитку.
– Об том мы поговорим после.
Они вошли во двор, и сердце Фивы радостно затрепетало. Всё здесь ей нравилось. И высокое крыльцо с навесом, огороженное низкими широкими перилами, на которых можно было посидеть с бабушкой. И летняя кухня, и банька с поленницей дров. И сараюшка с живностью – козой и курами. И примыкающий к сараюшке небольшой сеновал. Но больше всего ей нравились стол под берёзами, яблоневый сад и новый омшаник в саду. Даже не омшаник, а петляющая тропинка к нему. Летом вся в зарослях смородины и малины. А зимой – в высоких сугробах снега, круто срезанных по краям, так, что, казалось, идёшь и не по тропинке вовсе, а по запутанному лабиринту, ведущему либо в логово чудовища, либо в сказочный дворец.
Возле калитки снег был расчищен, но не полностью, а ограниченным и как бы вытоптанным пятачком. Те же пятачки у крыльца, летней кухни и за оградой денника – у сараюшки. Всё остальное пространство – царство снега и белизны. Причём такое, что уже и расчищенные пятачки воспринимались как неуместные – нарушали гармонию заповедной нетронутости. В особенности бросились в глаза толстый пуховик снега на столе, под берёзами, и змеистый след от валенок к омшанику. Фива вдруг остро почувствовала, что нет дедушки, навсегда нет, – спросила:
– А где у нас лопаты – за летней кухней?
Кивнув, бабушка осторожно поднялась на крыльцо и, присев на перила, стала отговаривать внучку, мол, поздно уже, сама потом всё расчистит. А для Фивочки есть радостное сообщение. Именно сообщение вынудило её каждый день ходить на вокзал.
Фива духом воспрянула, но от решения не отказалась – до темна ещё сколь? Успеет. Да на снегу и не бывает темно. А радостное сообщение пусть до ужина прибережёт. У неё тоже есть кое-что для бабушки.
В общем, сменила полушубок на телогрейку (всё остальное обмундирование на ней оказалось как нельзя кстати) и опять – на улицу. Конечно, бабушка – за ней. Но Фива назад отправила, пусть приготовит настоянный на травах чай, который в городе ей иногда даже снится.
Фива трудилась без устали более часа. Бабушка, выглядывая в окошко, только диву давалась – какая силища в ней. Всё убрала, всё расчистила, а главное – дорожку пробила к омшанику, да такую змеистую, словно сам дед помогал ей. Когда бабушка вышла принять работу, первое, что сказала Фива:
– Уж и не знаю, но сдаётся мне, что дед был бы доволен.
Запыхавшаяся, раскрасневшаяся, она так весело засмеялась, что и бабушка в ответ зарделась, отдала палку и, словно лебёдушка, легко проплыла по дорожке взад-вперёд. И заверила:
– Непременно, непременно – Флорушка доволен!
И опять, как при встрече на вокзале, Фива удивилась бабушкиному умению превращаться из одной, ей известной бабушки в другую, хотя и узнаваемую, но совершенно неизвестную. Но больше всего её поразило, что бабушка не воспринимает деда умершим – он для неё живой, находящийся рядом. Когда примеряла просторный платок, сказала, смотрясь в зеркало:
– Ну что, дед, насмотрелся – доволен подарком внученьки? А уж как я, старая, довольна – тому и слов нет!
Подошла к Фиве, обняла и поцеловала.
А потом они ужинали. Еда была весьма скромной: гречневая каша с квашеной капустой и ржаным хлебом и чай со смородинным листом и малиновым вареньем. В общем, как раз такой, какою и должна быть в строгий пост.
Затем лепили рождественские пельмени. Что это за прелесть – лепить пельмени и разговоры разговаривать, отдаляя и отдаляя радостную весть, которая уже в каждом предмете и в самом окружающем воздухе наступающего Рождественского сочельника!
Наконец и с пельменями покончили. На широких фанерках Фива вынесла их в летнюю кухню, чтобы за ночь прихватило морозцем. А когда вошла в избу, почувствовала запах леса и родника в знойный полдень. Бабушка стояла на табуретке и заглядывала за икону Божией Матери, точнее, запустила руку за празднично вышитый рушник, в который она была наряжена. Ещё бабушка ничего не сказала, а Фива уже чутьём поняла – цветок, колокольчик. Бабушка осторожно слезла с табуретки.
– Вот тебе весть от ангела Флора, тёзки мово Флорушки.
Протянула белый цветик-семицветик с розоватым пестиком и золотыми тычинками внутри. Так сказать, преподнесла.
– Лежал себе, лежал сухой былиночкой. А это, как раз перед Новым годом, протирала икону Царицы Небесной – слышу, духмяным горошком повеяло, будто из родникового леска. Запустила руку за рушник – вот оно в чём дело! Объявился у нашей Фивы Иван-царевич, добрый молодец.
Взяла Фива лесной цветок и засмеялась всем своим существом, всем своим сознанием.
– Не Иван-царевич, а Иннокентий – Кеша.
Понюхала цветок, а он в её руках ещё сильнее и вольнее заблагоухал, словно и не зима, и не ночь вокруг, а знойный летний полдень.
Пока любовалась колокольчиком и ставила его в кефирную бутылку, бабушка легла отдыхать. А когда подвинула цветик-семицветик к своему изголовью, словно светом голубых зарниц озарилась горница – кристаллы мерцающих звёзд вспыхнули в воздухе. Фива услышала далёкий-далёкий серебряный звон – услышала и тут же уснула.
Глава 7
Задуматься было о чём.
Неистребимая тысячерублёвая банкнота в энциклопедическом словаре, которую дважды «потратил»: на апельсины и шампанское для Фифочки, а ещё прежде одолжил хозяину квартиры Никодиму Амвросиевичу. Давнишнее происшествие с новогодними апельсинами, перетянутыми красной нитью крест-накрест. Синеглазая девочка из прекрасной страны зелёных холмов. Странный сон или сны, в конце концов обернувшиеся для него потерей одного вполне реального дня, а для лаборатории – ещё и потерей дорогостоящего электронного оборудования. В общем, задуматься было о чём.
Он невольно взглянул на экраны почерневших мониторов, на обуглившиеся пучки проводов, на спёкшиеся в коричневые оладьи полимерные трубочки, но не почувствовал ни страха, ни сожаления – ничего. Перед масштабами стихийного бедствия, вызванного цунами и унёсшего тысячи человеческих жизней, всё это выглядело несущественным.
Внезапно зазвонил дверной звонок. Прежде обезьянки всегда реагировали на него, а в этот раз будто не услышали. Только с появлением обслуживающего персонала (двух мужчин и одной женщины в тёмно-зелёных халатах) подняли обычный ор, почуяли, что их забирают на ужин.
Воспользовавшись сумятицей, вызванной перемещением макак в обезьянник, подошёл Зоро и сунул Кеше вчетверо сложенный лист бумаги.
Кеша не торопясь развернул его, на нём на всю страницу были запечатлены они с Фивой, причём в обнимку. Снимок был чёрно-белым и весьма слабо пропечатанным, словно его напечатали на принтере с выработанным картриджем. И всё же изображение было достаточно отчётливым, чтобы узнать их. Он стоял вполоборота, его лица почти не было видно, зато лицо Фивы, обрамлённое вязаной шапочкой, было видно вполне. Какая она красивая, невольно подумал Кеша и строго спросил:
– Где ты взял это?
Зоро указал стол, возле которого он поднял лист. Прямо над ним возвышались главный компьютер и электромагнитор, преобразователь магнитных полей, названный ими в честь писателя-фантаста Толкина Властелином колец.
Кеша узнал торец стола – возле него стояла клетка с обезьянкой из контрольной группы, к которой во сне подвёл его Богдан Бонифатьевич. А потом Фива оперлась о Кешино плечо, и все разом вскрикнули: кирдык приборам – сгорели. В ответ Кеша крепко-крепко обнял Фифочку и в потрясении проснулся, потому что обезьянка вдруг стала напевать: «Фифа, Фифочка моя! Фифа, Фифочка, я – твой!»
Кеша молча спрятал изображение во внутренний карман пиджака. Встал. И, захватив чистый лист бумаги (прежде на нём было исчезнувшее письмо Богдана Бонифатьевича), подошёл к столу, на который указал Зоро, и недолго думая положил его на край стола, придавив рукой. И сразу же на листе выступили уже известные строчки руководителя лаборатории, рекомендовавшего Кеше немедленно явиться на кафедру.
– Как это?! – удивился Зоро.
Неожиданно у них за спиной вырос охранник в жилете, потребовал письмо. Кеша, не возражая, отдал, заметив, что письмо сугубо личное.
– Сугубо личные письма мы возвращаем, – парировал охранник и поторопил их – уже все вышли в коридор, а они мешают обслуживающему персоналу вывозить из лаборатории подопытных животных.
Слово «животных» резануло слух. В применении к столь милым и маленьким существам оно воспринималось неотёсанно грубым, но Кеша воздержался от каких бы то ни было замечаний, промолчал. Он не хотел раздражать охранников, более того, побаивался какой-нибудь неосторожностью навлечь на себя их гнев и таким образом подставить Фиву. Ведь её изображение на фоне лаборатории находится не где-нибудь, а у него в кармане. Вдруг его пропустят через сканер, умеющий всё считывать?
В коридоре, как только уединились, Зоро напустился на Кешу: