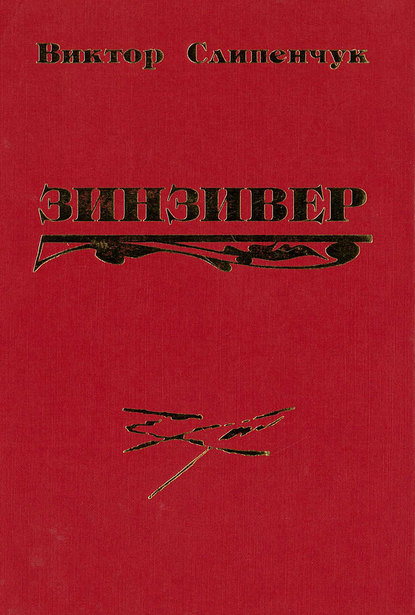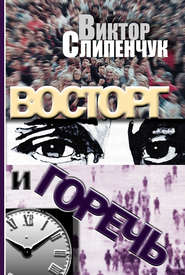По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зинзивер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Коля Мищенко, Николай Иванович. Знаешь такого? – в свою очередь поинтересовался Вася.
– Знаю, визуально, но лично не знаком, – ответил я.
– Великолепный фотоальбом подготовил о нашем городе – зарубили на корню.
– Почему?
– Известное дело – притесняют. Обычные перегибы…
Зная, что у Васи под всякими перегибами подразумеваются притеснения по пятому пункту анкеты, возразил, что этого не может быть: во-первых, Иванович, во-вторых, у него паспортные данные на лице, не спутаешь – чистокровный русич.
Вася Кружкин встал из-за стола, взял чашку с чаем, стоявшую на тумбочке, и сразу в глаза бросился его гигантский рост (чашка, которую он держал на уровне груди, замаячила у меня над переносицей).
– Я тоже, как известно, Иванович…
Странно, но я впервые слышал, что он – Иванович. В памяти Василий Кружкин ассоциировался с Васей-Еврейчиком, но чтобы с Ивановичем – никогда!
Чтобы не пролить чай, Вася осторожно развел руки, приглашая внимательно посмотреть на него. (Богатырское телосложение, круглолицесть, голубые глаза, веснушки на вздернутом носу – все это никак не вязалось с тем, что он – Еврейчик.)
Мне нечего было сказать, и я лишь промычал:
– Да-а!
Соглашаясь со мной, и он растянуто повторил: «Да-а!»
Глупейшая ситуация, чтобы хоть как-то разрядить ее, я возмутился:
– Какие обычные перегибы, если вся пресса в руках у прорабов перестройки?!
Вася загадочно и счастливо улыбнулся и, отхлебнув чай, сменил тему. Вынудил рассказать, почему я интересовался свободным местом на четвертой полосе. Я и думать не думал, что мое упоминание о прорабах перестройки он воспримет на свой счет и ни больше ни меньше – как заслуженный комплимент.
Когда по его настоянию машинистка перепечатала мое стихотворение и он самолично собрал на него отзывы всех завов нашей газеты, а потом попросил зайти к нему (я как раз опустошал ящики своего редакционного стола, забитые творениями литобъединенцев), первое, что он сказал, касалось именно прорабов перестройки и именно того, что вся пресса хотя и в их руках, не все так просто, как кажется. (Вася улыбнулся, продолжая отхлебывать чай, то есть с тою же улыбкой, но на этот раз вместо загадочности в ней проскальзывал трепетный свет многозначительного знания.) Вася стал распространяться о том, что мы привыкли жить по старинке и всякое новаторство нам – как нож к горлу. Да, пусть он – Еврейчик. Ну и что?! Он гордится этим.
Сев возле Васиного стола, я увидел, что мое стихотворение уже размечено для засылки в набор. Это казалось невероятным, все во мне возликовало – во вторник Розочка прочтет посвящение и, вполне возможно, вернется, и мы помиримся!
Васины разглагольствования я слушал вполуха. Загодя решил во всем соглашаться с ним. Наверное, поэтому, неожиданно даже для себя, вдруг встал боком и поддакнул, что и я горжусь.
Вася остановился (ходил по кабинету), и мы долго и как-то бессмысленно смотрели друг на друга: я – перпендикулярно в потолок, а он – вниз, как бы на носки своих полуметровых кроссовок. Тут я понял, что, слушая Васю вполуха, чересчур загружаю себя – надо не поддакивать, а просто бездумно молчать. И я молчал.
Между тем, возобновив хождение по кабинету, он стал рассказывать о своей бабушке в Биробиджане, которая, как Арина Родионовна, еще в детстве прочла ему всего Самуила Яковлевича Маршака.
Он опять остановился и, уронив голову на грудь, чтобы не выпускать меня из поля зрения, стал читать наизусть, точнее, декламировать:
Шесть
Котят
Есть
Хотят.
Дай им каши с молоком.
Пусть лакают языком,
Потому что кошки
Не едят из ложки.
– Замечательные стихи, просты как правда! – восхищенно сказал я и, встав, крепко пожал руку Васе-Еврейчику. – Спасибо!
Потом я снова сел и сделал вид, что не хочу смущать Васю, который действительно смутился моему рукопожатию, покраснел от удовольствия, точно ребенок. На самом деле, поддерживая голову, словно роденовский мыслитель, я мог беспрепятственно сосредоточиться на своем стихотворении, которое лежало по другую сторону стола. Помимо технической разметки, бросалась в глаза так называемая правка – вычеркивания.
Странно, что ему, а точнее, консилиуму заведующих отделами не понравилось? (После шести котят, которые есть хотят, я был уверен, сам Вася вряд ли бы решился на вычеркивания.)
Настроили, думал я о нем, а он в это время продолжал смотреть на меня из-под потолка. Чувствуя его взгляд, нарочно почесал темя – пусть думает, что и я думаю, потрясенный его бабушкой, «Ариной Родионовной».
Молчание затягивалось, тем не менее поднимать глаза к потолку не хотелось. И все же пора было поддерживать разговор, пора. Я вторично почесал темя и со всей доступной мне глубокомысленностью изрек, глядя в стену:
– Маршак – это Маршак!
– А Осип Мандельштам, а Константин Симонов, а Борис Пастернак, а Иосиф Бродский, наконец! – не по-кружкински быстро включился Вася.
Удивительно, но банальнейшей репликой я неожиданно попал в самую сердцевину Васиных мыслей. Мне даже стало неудобно, почувствовал, что уронил себя перед Васей, – все же не он, а я пытаюсь стать поэтом. Позабыв о последствиях, встал боком и сказал бесстрастно, словно робот:
– Лично я всегда считал названных поэтов русскими.
В глазах Васи мелькнула некая тень. Он обошел стол, молча сел в кресло. Нет-нет, это была не тень испуга, скорее, тень тревоги и еще чего-то, что не имело слов, но она отозвалась во мне жалостью, и, уступая ей, я бросил Васе спасательный круг:
– А что, разве и они (чуть не ляпнул – «из Биробиджана», но вовремя спохватился), разве и они как ваша бабушка по материнской линии?
Вася не сказал ни «да», ни «нет», а только, закрыв глаза, согласно кивнул. Потом, перейдя на «вы», спросил:
– Вам никогда не приходилось задумываться над тем, что все они (а Мандельштам этого и не скрывал) во что бы то ни стало хотели стать именно русскими писателями? Так сказать, голубая мечта…
– Нет, – сказал я. – У нас полнейший интернационализм, рабоче-крестьянское взаимопроникновение всех наций и народностей в одну международную нацию – советский трудящийся.
Разумеется, ответ был заученным и в памяти всплыл потому, что Васин вопрос показался подозрительным, задай кто другой – я бы воспринял его как провокационный. Но, слава Богу, задал его Вася по кличке Еврейчик, всей своей жизнью наглядно демонстрирующий взаимопроникновение. Отбарабанив ответ, я подивился – надо же, как четко сработал инстинкт самосохранения!
Зазвонил телефон, звонил дежурный из типографии. По разговору я понял, что на свободное место на первой полосе Вася планирует фотографию школьницы и мое стихотворение.
Я не верил своим ушам – неужели на первую полосу мое стихотворение и фото школьницы, пускающей мыльные пузыри?! Это казалось невероятным.
Однако его рассуждения о новаторстве… Если он считает себя прорабом перестройки – вполне возможно… Но есть еще редактор… Я пытался хоть как-то урезонить поднимающуюся из глубин радость, но – тщетно. Воображение услужливо подсовывало ликующую картину Розочкиного возвращения.
Вася положил трубку и, словно отвечая на мои мысли, сказал: до вторника он за редактора и готов рискнуть – поставить мое стихотворение на первую полосу при условии, что я заменю название и посвящение.
Радости как не бывало. Мною овладела апатия, публикация теряла смысл. А Вася доказывал, убеждал, что всякая смелость имеет границы – «Ангелы…» в комсомольской атеистической газете, да еще на первой полосе?! «Нас не поймут», – горячился Вася. А мне было наплевать, я предложил вообще убрать название. Он воспротивился:
– Название тянет на пять строк, если убрать – дырка будет, которую ничем не закроешь.
Сошлись на названии «У Лебединого озера».
– Конечно, просто «У озера» было бы лучше, – сказал Вася. – Но оно вызовет ассоциации не в нашу пользу, потому что с подобным названием есть старый фильм Сергея Герасимова о Байкале, и получится, что поэтическая Лебедь – Лебедь байкальская, а этого не надо.