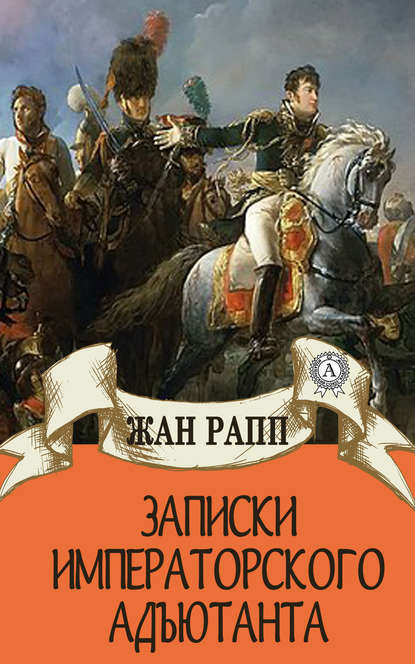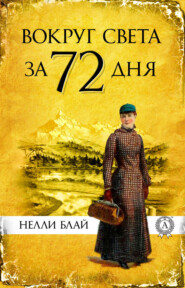По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки императорского адъютанта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Незадолго до битвы при Аустерлице часть армии находилась на очень неблагоприятной позиции, и генерал, командовавший ей, открыто преувеличивал ее недостатки. Тем не менее, на Совете, он не только утверждал, что она очень даже недурна, но даже обещал удержать ее. «Как же так, маршал? – спросил Великий Герцог де Берг.[2 - Мюрат. – Прим. перев.] – Что же стало с теми сомнениями, которые вы еще так недавно терзали вас?» «К чему кокетство, если мы собрались для принятия решения? – парировал маршал Ланн. – Мы должны представить все Императору в истинном свете, так, чтобы он мог поступить так, как сочтет целесообразным». «Вы правы, – сказал Наполеон, – те, кто желают моих милостей, не должны меня обманывать».
Но хотя он всегда был готов получить совет от тех, кто был способен дать его, он совершенно не терпел рассуждающих на незнакомые им темы. Однажды Феш решил высказаться об испанской войне. Но успев произнести лишь пару слов, как подведя его к окну, Наполеон спросил: «Вы видите эту звезду?» Разговор происходил в полдень, и кардинал ответил, что не видит никакой звезды. «Прекрасно, – сказал Наполеон, значит я пока единственный, кто ее видит, а стало быть, я продолжу свой путь и не услышу никаких рассуждений о своем поведении».
По возвращении из Русской кампании он с глубоким волнением сожалел о смерти многих погибших в ней храбрецов, а не о казачьих пиках, морозе и голоде. Какой-то придворный, захотевший вставить свое слово, с очень печальным видом промолвил: «Мы понесли огромные потери!» «Да, – подтвердил Наполеон, – мадам Барилли[3 - Известная оперная певица. – Прим. ред.] мертва».
Он всегда издевался над глупостью, но никогда не избегал любезности или откровенности.
Однажды мадам Бачиоци привезла в Тюильри своего родственника – мсье д'А ****. Введя его в приемную, она удалилась, и он остался наедине со мной. У этого мсье д'А ****, как и у многих его соотечественников, было очень некрасивое лицо, он не очень нравился мне, но, тем не менее, я доложил о нем Императору, а затем представил его. У этого человека, несомненно, было нечто важное для личной встречи. Кивком головы Наполеон приказал мне вернуться в приемную. Я притворился, что не заметил его, и я остался, потому что я опасался за него. Пропев что-то итальянское, он сказал мне, что им надо остаться наедине. Я вышел, но дверь кабинета оставил приоткрытой.
После того, как мсье д'А **** ушел, Наполеон спросил меня, почему я так неохотно ушел. «Вы же знаете, – ответил я, – что я не страдаю навязчивостью, но должен откровенно признаться, что ваши корсиканцы мне не нравятся». Он потом сам лично рассказывал эту историю, но она очень не понравилась некоторым членам его семьи. Тем не менее, я убежден, что он и сам предпочел бы не слышать моего мнения о его соотечественниках.
Однажды вечером, после битвы при Ваграме, мы играли в двадцать одно. Наполеону очень нравилась эта игра: он постоянно пытался обхитрить своих партнеров и очень радовался, когда у него это получалось. Перед ним на столе лежала куча золота. «Рапп, – сказал он, – разве немцам не нравятся эти маленькие наполеончики?» «Да, Сир, они любят их гораздо больше, чем одного большого». «Voil?, – воскликнулон, – это, я так полагаю, и есть то, что вы называете немецкой откровенностью».
ГЛАВА VI
Когда началась третья война с Австрией, я был в Булонском лагере. Мы перешли Рейн. Истерзанная и разбитая на куски вражеская армия укрылась в Ульме, и ей тотчас предложили капитуляцию. Отчет об этих переговорах, которыми руководил мсье де Сегюр, так хорошо отображает растерянность и волнение несчастного генерала, что я не могу удержаться от того, чтобы не привести его здесь. Вот его собственный рассказ.
«Вчера, 24-го вандемьера (16 октября), Император пригласил меня в свой кабинет. Он поручил мне отправиться в Ульм и уговорить генерала Мака сдаться в течение пяти дней, может шести, если попросит, и других указаний у меня не было. Ночь была темна, разразилась страшная буря, а дождь хлестал толстыми струями, а мне пришлось следовать по проселочным дорогам и избегать трясин, в которых и человек, и лошадь и миссия, наверняка нашли бы свой несвоевременный конец. Я почти добрался до ворот города, но по дороге не встретил ни одного нашего поста. Ни одного человека, все – часовые, конные патрули, охранники, – все попрятались. Даже артиллерийские парки были покинуты, ни костров, ни звезд, – абсолютно ничего не было видно. В поисках генерала я блуждал около трех часов. Я побывал в нескольких деревнях и опросил всех встреченных по пути, но никто мне ничего определенного сказать не мог.
В конце концов, я наткнулся на трубача-артиллериста, – под зарядным ящиком, наполовину погребенного в грязи и полумертвого от холода. Мы подошли к укреплениям Ульма. Нас, конечно же, ждали, ибо мсье де Латур, очень хорошо говоривший по-французски офицер, вышел ко мне по первому же вызову. Он завязал мне глаза и помог перелезть через бруствер. Я заметил своему провожатому, что темень такая, что в повязке надобности нет, но он ответил, что таков порядок и нарушить его никак нельзя. Прошли мы, как мне показалось, немало. Я вступил с ним в разговор, я хотел знать, сколько в городе солдат. Я спросил его, далеко ли еще до дома генерала Мака и эрцгерцога.
– О, нисколько, в паре шагов, – ответил мой проводник. Я предположил, что в Ульме собрались все остатки австрийской армии, и последующий разговор подтвердил эту догадку. Наконец мы добрались до постоялого двора, где проживал главнокомандующий. Пожилой человек, высокого роста, лицо бледное, но очень живое и выразительное. Он очень волновался и из всех сил старался скрыть это волнение. После обмена несколькими любезностями я назвал ему свое имя, а затем, перейдя к сути своей миссии, я сообщил ему, что Император послал меня для того, чтобы предложить ему сдаться и согласовать условия капитуляции. Эти слова явно оскорбили его, поначалу он, похоже, не хотел слушать меня дальше, но я настоял на том, чтобы быть услышанным. Я заметил, что, судя по увиденному, я, так же, как и Император, могу предположить, что он понимает, в каком он положении. В ответ он резко ответил, что вскоре оно изменится, поскольку к нему на помощь идет русская армия, и, попав между двух огней, нам самим придется капитулировать. Я же ответил, что в его нынешнем состоянии неудивительно, что он не знает о том, что происходит в Германии, и все же я сообщил ему, что маршал Бернадот сейчас хозяин Ингольштадта и Мюнхена, а возле Инна, где русские еще никак не проявили себя, стоят его аванпосты.
«Я был бы величайшим из глупцов, – сердито воскликнул генерал Мак, – если бы не имел проверенных данных о том, что русские сейчас находятся в Дахау! Или вы думаете, что меня обманули? Я, что, ребенок, по-вашему? Нет, мсье де Сегюр, если я не получу помощи в течение восьми дней, только тогда я соглашусь сдать свою крепость при условии, что мои солдаты будут считаться военнопленными, а мои офицеры отпущены под честное слово. Через восемь дней я получу помощь, и я исполню свой долг. Да, я получу помощь, я уверен!» «Позвольте мне напомнить вам, генерал, что в наших руках не только Дахау, но и Мюнхен. И если уж на то пошло, если ваши неверные данные правдивы и русские в самом деле в Дахау, и за пять дней они успеют продвинуться и атаковать нас, то эти пять дней Его Величество хочет подарить вам». «Нет, мсье, – ответил маршал, – я требую восемь дней. Других предложений я слушать не буду. У меня должно быть восемь дней, ибо это время обусловлено моими обязательствами». «В таком случае, – продолжал я, – вся сложность заключается в том, чтобы определить разницу между пятью и восемью днями. Но я не понимаю, почему ваше превосходительство придает этому вопросу такое большое значение, когда он видит перед собой Императора во главе 100 000 человек, а корпусам маршала Бернадота и генерала Мармона вполне достаточно трех дней для задержания русских, как бы далеко они не находились». «Русские в Дахау, – повторил генерал Мак. «Что ж, барон, пусть будет по-вашему! Но будь они даже в Аугсбурге, нам все равно нужно прийти к соглашению с вами. Не принуждайте нас брать Ульм штурмом, ибо тогда, вместо пятидневного ожидания, Император потратит только одно утро, чтобы сделать эту работу». «Ах, мсье, – ответил командующий, – не думайте, что пятнадцать тысяч человек так легко сдадутся. Этот штурм дорого обойдется вам». «Возможно, в несколько сотен человек, – ответил я, – и к тому же вся Германия будет упрекать вас за потерю вашей армии и разрушение Ульма, короче говоря, желая не допустить всех этих ужасов, Его Величество прислал меня, чтобы передать вам его предложение». «Скажите лучше, десять тысяч! – воскликнул маршал. – Сила Ульма общеизвестна». «Он стоит в окружении занятых нами высот». – «Полно, мсье, невозможно, чтобы вы не знали о силе Ульма!» – «Конечно, нет, маршал, и теперь я могу ее еще лучше оценить, сейчас, находясь за стенами этого города». «В таком случае, мсье, – продолжил несчастный генерал, – вы видите, что люди будут стоять до последнего, если ваш Император не даст им восьми дней. Я продержусь. В Ульме есть 3000, которыми, вместо того, чтобы сдаться, мы будем питаться с тем же удовольствием, что и вы, будь вы на нашем месте. «Три тысячи лошадей!» – воскликнул я. – Увы, маршал! Вы все же обязаны еще раз подумать о столь ничтожной разнице, прежде чем решить прибегнуть к такому жалкому ресурсу».
Со всей серьезностью маршал заверил меня, что у него есть провизии на десять дней, но я не верил в это. Приближался рассвет, но переговоры не продвинулись ни на шаг. Я мог предложить ему только шесть дней, но генерал Мак так упорно настаивал на восьми, что я заключил бы этот договор, если бы разница даже в один день не была бы так принципиальна. Но я не стал рисковать и, поднявшись, чтобы удалиться, я сказал, что согласно полученным указаниям, я должен вернуться до утра и в случае отклонения моего предложения, передать маршалу Нею приказ о начале атаки. Здесь генерал Мак пожаловался на жестокость, проявленную маршалом в отношении одного из его парламентариев, чье послание он просто отказался выслушать. Воспользовавшись этим фактом, я отметил, что по нраву своему маршал стремителен, нетерпелив и несдержан, что командуя самым многочисленным и ближе всех остальных отстоящим от города корпусом, он с нетерпением ждет приказа о начале штурма, который я должен буду ему передать после моего отъезда из Ульма. Но старый генерал не испугался, он настаивал на том, чтобы ему дали восемь дней, прося меня передать это предложение Императору.
Бедный генерал Мак был почти готов согласиться со своей собственной гибелью, а значит и гибелью Австрии. Но, несмотря на всю отчаянность своего положения, будучи охваченным невероятной тревогой, он все же не уступил – он был хладнокровен, здравомыслящ и самым живым образом держал дискуссию, защищая то единственное, что он мог защитить, а именно время. Он стремился задержать падение Австрии, которого он сам был причиной, и хотел выгадать лишь несколько дней для подготовки, и даже проиграв, он по-прежнему боролся за нее. Будучи по характеру своему больше политиком, чем солдатом, как обладатель власти, он был хитер и коварен, но среди догадок и неизвестности – в полном смущении и растерянности.
25-го числа, около девяти часов утра, прибыв к Императору в аббатство Эльхинген, я рассказал ему о результатах переговоров. Он, похоже, был удовлетворен и я ушел. Однако он пожелал, чтобы я снова зашел к нему, но поскольку я пришел не сразу, он послал ко мне маршала Бертье с письменным изложением предложений, которые, как он хотел, чтобы я уговорил генерала Мака подписать немедленно. Император предоставил австрийскому генералу восемь дней, начиная с 23-го, – первого дня блокады, – а потому число дней и в самом деле сократилось до шести, кои я и мог бы предложить с самого начала, но согласия на то я не имел.
Однако в случае повторного отказа я получил разрешение на восемь дней – с 25-го числа, – и, таким образом, Император все равно бы выиграл один день. Он хотел очень быстро войти в Ульм, чтобы укрепить свою славную победу быстротой, а потом добраться до Вены прежде, чем город оправится от удара и русская армия начнет что-либо предпринимать. В конце концов, у нас начала заканчиваться провизия, и это тоже оказало влияние на наши действия.
Маршал Бертье сообщил мне, что он начнет движение к городу, и что, если условия будут приняты, он будет очень рад, если я позабочусь о его прибытии.
Я вернулся в Ульм около полудня, все меры предосторожности, которые были приняты во время моего прошлого визита, повторились снова, но на этот раз я встретился с генералом Маком у ворот города. Я передал ему ультиматум Императора, и он ушел, чтобы обсудить его с несколькими своими генералами, среди которых я заметил принца Лихтенштейна и генералов Кленау и Дьюлаи. Примерно через четверть часа он вернулся и снова, – по поводу даты, – вступил со мной в дискуссию. Он не совсем правильно понял определенный пункт в этих изложенных письменно предложениях, и это заставило его поверить в то, что он получит перемирие на целых восемь дней, считая с 25-го. Охваченный невероятной радостью, он воскликнул: «Мсье де Сегюр! Мой дорогой мсье де Сегюр! Я полагался на щедрость Императора, и я не обманулся. Сообщите маршалу Бертье о моем глубоком уважении. Скажите Императору, что у меня есть лишь несколько незначительных замечаний, и что я подпишу доставленные вами предложения. Но сообщите Его Величеству, что маршал Ней очень плохо отнесся ко мне, – самым неуважительным образом. Заверьте Императора, что я надеюсь на его великодушие». Затем, с особой теплотой, он добавил: «Мсье де Сегюр, я очень уважаю вас и ваше мнение. Я хочу, чтобы вы увидели этот подписанный мной документ, чтобы вы убедились, что моя решимость неизменна». Произнеся это, он развернул лист бумаги, на котором было написано следующее: «Восемь дней или смерть!» Подпись – «Мак».
Я был поражен той радостью, которая сияла на его лице. Я был поражен тем, что он – словно ребенок – радуется столь пустячному соглашению. В час полного крушения, настолько значительном, я был ошеломлен тем, что этот несчастный генерал искренне верил, что та хрупкая соломинка, в которую он вцепился, спасет его репутацию, честь его армии и обеспечит безопасность Австрии! Схватив мою руку, он горячо пожал ее и позволил мне выйти из Ульма без повязки на глазах, а потом разрешил мне ввести маршала Бертье в крепость без соблюдения обычных формальностей, короче говоря, он был в полном восторге. В присутствии маршала Бертье он снова заговорил о датах. Я объяснил случившийся казус, и дело было отправлено Императору. Утром генерал уверял меня, что у него провизии на десять дней, но я уже намекнул Его Величеству, что мне так не кажется, что, действительно, оказалось именно так, поскольку в тот же день он попросил разрешения для завоза в крепость дополнительного провианта.
Мак, видя, как повернулось дело, вообразив, что вернувшись в Ульм и оставшись в нем, он, привлекши внимание Императора, задержит его, таким образом, обеспечив отход своих других корпусов иными дорогами. Он считал, что он жертвует собой, и эта идея придавала ему мужества. Когда я начинал наши переговоры с ним, он полагал, что наша армия стоит перед Ульмом и не может двигаться. Он уговорил эрцгерцога и Вернека тайно покинуть город. Одна дивизия попыталась уйти в Мемминген, а другие в Тирольские горы, но каждая из них либо была превращена в пленников, либо находилась в состоянии готовности стать таковыми.
Когда 27-го числа генерал Мак пришел на встречу с Императором в Эльхинген, все его иллюзии развеялись.
Его Величество, чтобы убедить его в бессмысленности попытки задержать нас возле Ульма, описал ему все ужасы его положения. Он рассказал ему о наших успехах на всех фронтах, а кроме того, сообщил ему, что корпус Вернека, вся его артиллерия и восьмеро его генералов сдались, что сам эрцгерцог в очень незавидном положении, а от русских никаких вестей. Все эти новости словно молния поразили главнокомандующего, силы покинули его, и чтобы не упасть ему пришлось прислониться к стене. Непосильное бремя стольких несчастий сломило его. Он признал свое поражение и откровенно сообщил, что провизии в Ульме нет, что вместо 15 000 солдат у него имелось 24 000 способных сражаться и 3000 раненых, но все они в глубочайшем замешательстве и с каждым мгновением их шансы выжить становятся все призрачней. Он добавил, что уверен в том, что надеяться больше не на что, посему он согласен сдать Ульм на следующий день (28-го) в три часа дня.
Покинув Его Величество, и увидев некоторых наших офицеров, он сказал – я лично слышал его слова: «Так обидно слыть неудачником в умах стольких храбрых офицеров. Но у меня в кармане лежит мое, собственноручно написанное и заверенное мною заявление, в котором я отказываюсь распустить свою армию, но командовал не я, а эрцгерцог Иоанн». Очень возможно, что Мак подчинился только по принуждению и с большой неохотой.
23-го числа 33 000 сдавшихся австрийцев продефилировали перед Императором. Пехотинцы бросали ружья на обочину, кавалеристы спешивались, клали оружие, а потом продолжали свой путь пешком, ведя своих лошадей к нашим кавалеристам. Сдавая оружие, солдаты кричали: «Vive L'Empereur!» Мак тоже присутствовал при этом, и тем офицерам, которые, не зная, кто он такой, обращались к нему, он говорил: «Перед вами несчастный Мак!»»
Как и генералы Мутон и Бертран, я тоже был в Эльхингене, когда для того, чтобы выразить уважение к Наполеону, туда прибыл Мак. «Тешу себя мыслью, господа, – сказал он нам, проходя через комнату дежурного адъютанта, – что вы не перестаете считать меня храбрым человеком оттого, что мне пришлось уступить такой силе: трудно противостоять маневрам вашего Императора, его планы уничтожили меня».
Наполеон, который был вне себя от радости от такого успеха, послал генерала Бертрана в Ульм проверить состояние находившейся в нем армии. Вернувшись, тот сообщил, что в городе была 21 000 человек. Император никак не мог поверить в это. «Вы говорите с ними на одном языке, – сказал он мне, – пойдите и узнайте правду». Я поехал в Ульм. Я опросил командиров корпусов, генералов и солдат, и из собранной таким образом информации, я узнал, что гарнизон состоял из 26 000 боеспособных мужчин. Услышав это, Наполеон сказал: «Я, должно быть, сошел с ума, такого быть не может». Тем не менее, когда армия дефилировала перед нами, ее численность составляла, как утверждал мсье де Сегюр, 33 000 человек и 19 генералов, кавалерия и артиллерия были в превосходной форме.
ГЛАВА VII
Запереть в Ульме все австрийские войска нам не удалось. Вернек убежал в сторону Хайденхайма, эрцгерцог последовал за ним. Оба они пытались спастись бегством, но Судьба уже вынесла свой приговор, и оспорить его никто не в состоянии. Глухой ночью, узнав, что они идут к Альбеку, Наполеон немедленно вызвал Великого Герцога. «Из города, – сказал он, – сбежала одна из дивизий. Она угрожает нашим тылам. Преследуйте, нагоните и уничтожьте ее, – никто не должен уйти». Дождь лил страшный, дороги были в ужасном состоянии, но ради триумфа победы об усталости и опасности никто не думал. Мы шли вперед и думали только о победе. Догнав врага, Мюрат атаковал его и погнал дальше. В своем полете он отстоял от него не более чем на два лье и не давал ему ни секунды на передышку. Беглецы заняли Хербрехтинген, вместе с его пушками. Наступила ночь, наши лошади совершенно выдохлись, мы остановились. В 9 часов рассвело. Затем мы пошли дальше, наша атака продолжалась – город, пушки, боеприпасы – захвачено было все. Генерал Одонел пытался со своим арьергардом защитить свои позиции, но будучи замеченным одним из наших квартирмейстеров, был им ранен и взят в плен. Была уже полночь, забыв об усталости, наши войска продолжали свой триумфальный бросок.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: