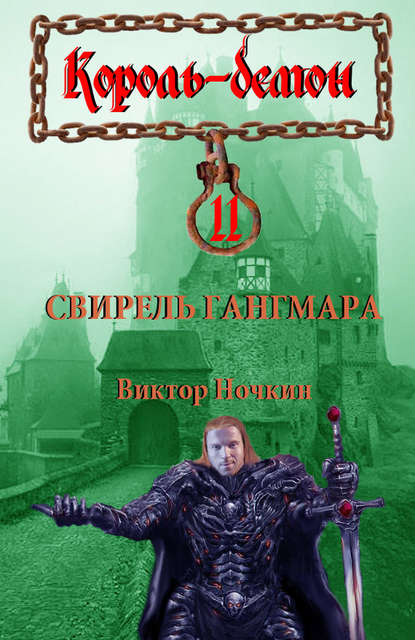По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свирель Гангмара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ригирт зашагал первым. Петер пристроился следом, вскоре в руках ученика что-то засветилось. Художник, шагавший за парнем рядом с осликом, ускорил шаг и поравнялся с молодым чародеем. Тот протянул Лукасу обычную шишку, которая испускала холодный зеленоватый свет.
– Вот, – немного смущенно сказал Петер. – Это поможет вам не заплутать в лесу. Только она недолго будет светить, скоро заклинание начнет слабеть, а часа через два погаснет вовсе. Успеете дойти?
– Конечно, – кивнул художник, – здесь недалеко. Спасибо, мастер.
С магическим фонариком Лукас почувствовал себя уверенней, хотя светящуюся шишку держать в руках было странно и непривычно. А колдуны, больше не обращая на него внимания, вполголоса завели свои странные разговоры.
– …Не понимаю, откуда в здешнем захолустье мог появиться такой мастер, – бубнил толстый чародей, – я, межу прочим, использовал против него Кулак Огнара! Это очень действенное заклинание, уж ты мне поверь… но…
Несколько шагов прошли молча.
– А признайте, мастер Ригирт, – нарушил паузу ученик, – когда я просто стукнул его, это оказалось куда полезней.
– Случайность! – запальчиво воскликну чародей. Потом продолжил уже гораздо тише – Э… Петер, послушай, если ты пообещаешь мне не распространяться о нынешней истории, то я… я обещаю… пожалуй, через год ты получишь патент на частную практику. Мы ускорим обучение и через год… или через два года, самое большее, я добьюсь, чтобы гильдия позволила тебе…
Тут в зеленоватом свете Лукас разглядел у обочины знакомый столб.
– Благодарю, мастера, за помощь, – громко произнес художник, – и за приятную компанию! Прощайте! Счастливого пути!
* * *
В лесу было по-прежнему темно, лунный свет не проникал сквозь сплетение ветвей над головой. Но Лукас уверенно шагал по тропинке, освещенной странным магическим фонариком. Вскоре зеленоватое свечение начало слабеть, даже быстрей, чем предупреждал парень, но Лукас уже различил между стволов огонек свечи. Такой теплый, живой – по сравнению с мертвенно-зеленым светом заколдованной шишки.
Лукас подошел к окну и заглянул в мутное стекло. Свеча на столе почти догорела, а Мона, похоже, задремала, опустив лицо в сложенные ладони. Художник улыбнулся и постучал.
Дочка, как всегда, радостно бросилась навстречу, словно после долгой разлуки. Отворила дверь, обняла.
– Ну, вот, наконец-то! А ужин уже остыл… Погоди, я сейчас!
Мона поцеловала отца и убежала хлопотать. Лукас печально посмотрел ей вслед. Милая, ласковая девочка, рано осталась без матери, очень сильно привязана к отцу. Пожалуй, что даже слишком сильно. В последнее время Лукас все чаще задумывался об этом. Моне скоро шестнадцать, совсем уже взрослая барышня. А у нее ни ухажеров, ни даже подруг. Сказалась, видать, кочевая жизнь, постоянные переезды из города в город. Вот только закончил расписывать своды Дригского собора, и сразу в Пинедскую обитель работать позвали. А год-другой спустя, глядишь, снова переезжать придется. Откуда подружкам-то взяться? Хотя, справедливости ради, надо сказать, тут дело не только в частых разъездах. Иная не то, что за месяц, да в первый же день со всеми перезнакомится и тут же подружится. У детей это обычно быстро происходит. Да только не у Моны. Красивая девушка, а людей дичится, из дому лишний раз не вытащишь. Часами может наблюдать, как отец картины пишет. Или подолгу книжку с картинками листает. Лукас когда-то в Ливде у старьевщика купил. Древняя книга, буквы странно выписаны, не разобрать, о чем… зато рисунки – глаз не оторвать. Старьевщик с фальшивой увлеченностью расписывал достоинства этой книги, но Лукас и без уговоров захотел приобрести старинный фолиант.
Конечно, для художника такая реликвия – настоящая находка. Уже несколько лет Лукас ежедневно рассматривает иллюстрации, наброски делает для будущих картин. В работе большое подспорье: иной раз случалось попросту срисовать из книги… людям-то нравится.
Хорошая книга, полезная. Но для художника! А вот молодой девице могло бы и поинтересней занятие найтись. Но Мона живет заботами отца. Ждет не дождется его с работы, бросается навстречу, мгновенно замечает, в каком настроении он пришел. В тяжелые дни, как может, старается утешить. Вот и сегодня девушка сразу почувствовала неладное.
– Папа, что-то случилось? Ты печальный, растерянный такой, – с тревогой глядя на отца, спросила Мона. – И эта вывеска из лавки мясника… Зачем ты снова домой ее принес?
Лукас натужно улыбнулся.
– Все в порядке, дочурка, я просто немного устал. А вывеска… понимаешь, какое дело… Она теперь больше не нужна. Закрыл мясник лавку, решил завести другое дело, – неуклюже солгал он.
Как и всегда, Лукас старался не тревожить дочку, не рассказывать ей ни о чем плохом. Вот теперь живут они в мрачном, кишащем бандитами, городе. Все запуганы, платят разбойникам дань, слово лишнее боятся сказать. А дочка весела и беспечна, обо всех этих ужасах даже не ведает. Верит каждому слову отца. Вот хорошо ли это?
Мона взяла в руки вывеску, долго любовалась забавной картинкой.
– Какая красивая у пастуха свирель! Я как раз сегодня в книжке такую видела.
Мона притащила тяжелый том, бережно пролистнула рассыпающиеся от времени пожелтевшие страницы с неведомыми письменами. Долго смотрела на старинную гравюру. В книге картина была еще интересней – кудрявого юношу со свирелью окружают не бессловесные твари, а девушки. Слушают, склонив головы, мечтают, должно быть.
– Вот бы узнать, о чем здесь написано, – задумчиво проговорила Мона, разглядывая надписи возле картинки.
Лукас не отвечал. В голове у него все звучали странные слова, произнесенные дочерью убитого мясника: «Сам Марольд Ночь картиной интересуется».
Что они могли означать, он не знал. Было лишь совершенно ясно: хорошего ждать не приходится.
Глава 7
На следующее утро Лукас отправился в монастырь. Его ждала рутинная работа – замерять оштукатуренные поверхности, рисовать планы помещений.
Путь предстоял недалекий, по тропинке сквозь небольшой перелесок, затем мимо вековых дубов вдоль быстро бегущего ручейка к подножию холма, а там уже и до ворот обители рукой подать. Стало быть, на всю дорогу минут пятнадцать хорошим шагом, не более. Так ведь когда-то и было рассчитано, чтобы наемные мастера, ремонтировавшие монастырские здания, жили поблизости, а не тащились ни свет, ни заря аж из самого города.
Много воды с тех пор утекло, как была выстроена на развалинах эльфийского замка Пинедская обитель, много раз приходилось людям достраивать и укреплять ее быстро ветшающие стены. Были, говорят, времена, когда селился работный люд возле самого монастыря. Но только городская стража однажды снесла жилье строителей, да так, что камня на камне не осталось. А новое выстроили уже за перелеском, подальше от монастырских ворот. А почему, да зачем это сделали, какие тайны хранили много чего повидавшие стены, история умалчивает. Может, попросту некоей церковной шишке пришлось не по душе, что мужчин поселили у самой обители гунгиллиных сестер. А может, какие-то иные причины нашлись. Да Лукас особо и не интересовался. Где только ни приходилось ему жить во время частых переездов! Так что привык ничему не удивляться. Селился, где был велено, в городе – так в городе, при монастыре – так при монастыре, ну, а в лесу, – значит, в лесу. Есть крыша над головой, и ладно.
Утро выдалось сумрачное, ненастное, моросил мелкий холодный дождь. В такие дни Пинедская обитель выглядела особенно мрачно и зловеще. Не лучше оказалось и за воротами. Опустевший монастырский двор, раскисшая земля… на растоптанной в грязь тропинке мокнет под дождем оброненный платок.
Встретила художника настоятельница Гана, маленькая горбунья с сердито сжатым запавшим ртом и крохотными, колючими глазками. Молча провела в здание, что-то сердито прошамкала, показывая на небрежно покрашенные, а кое-где еще и сырые стены.
Лукас кивнул и принялся делать замеры, записывая результаты на предварительно заготовленный набросок плана. Работа была привычной, поэтому продвигалась споро. Смущала лишь настоятельница, которая все это время продолжала неусыпно наблюдать за художником. Несколько раз Лукас переходил из одного помещения в другое, спускался и поднимался по многочисленным лестницам, кружил по узким, извилистым коридорам. И всюду горбатая старуха молча следовала за ним. Только однажды, когда художник собрался спуститься по крутой винтовой лестнице, настоятельница грозно потребовала, чтобы он возвращался назад. Лукас слегка удивился, но спорить не стал. Нет, так нет… А лестница выглядела очень древней, ступени мраморные, в отличие от стен, сложенных из кирпича. Да и перила вытерты до зеркального блеска. Должно быть, ход в хранилище, решил Лукас. Понятно, что на складе росписи ни к чему.
Наконец время, отведенное ему на пребывание в обители, подошло к концу, и, попрощавшись с сердитой монахиней, художник поспешил покинуть здание.
Дождь прекратился, но небо все еще было затянуто сплошной серой пеленой. Лукас вдруг подумал, что как-то уж слишком темно нынче, даже для столь неприветливой погоды. Время-то раннее, колокол недавно к обедне звонил. Вчера в этот час солнце в зените стояло, а тут прямо сумерки на дворе.
А еще Лукас подумал, что вот надо же, как неудачно совпало, именно сегодня он собирался приняться за портрет дочери. Ведь столько раз откладывал под разными предлогами эту работу, а нынче твердо решил начать. И тут как назло – словно ночь среди бела дня наступила. Может, распогодится понемногу? Однако когда Лукас вернулся домой, стало, как будто, еще темнее.
* * *
Мона, похоже, не замечала ничего необычного. Как всегда радостно бросилась навстречу отцу, обняла, потом быстро накрыла стол. После обеда зажгла в мастерской чуть ли не все свечи, которые были в доме, уселась перед пустым холстом, приготовленным еще вчера, и замерла, будто в ожидании чуда.
Лукас тяжело вздохнул и принялся за обещанный портрет. Рисовать он любил при ярком дневном свете. Неровное пламя свечей искажало лицо, меняло выражение глаз. Художник уже решил, сделав несколько мазков, отложить работу на завтра. Но вдруг неожиданно увлекся. Краски ложились будто сами собой, лицо дочери оживало на портрете. Лукас, забыв обо всем на свете, вдохновенно рисовал. Поэтому даже не заметил, когда в мастерской неожиданно погасла свеча. Она висела чуть в стороне, у самого входа, так что художник не обратил внимания и уверенно продолжал работу, торопясь сделать побольше, пока не угас порыв, и краски словно сами ложатся на холст. Но вскоре почти одновременно погасли еще три свечи, установленные возле мольберта. В полумраке лицо Моны на холсте вдруг сделалось настолько неотличимым от настоящего, что Лукасу стало страшно. Он так и застыл с кистью в руке, не в силах оторвать взгляд от портрета. И тут одна за другой быстро погасли остальные свечи. Вскоре помещение освещал лишь тусклый свет масляной лампы висящей под самым потолком. За окном послышались шаги, и минутой позже раздался громкий требовательный стук.
Лукас кинулся к выходу, едва приоткрыл дверь… Незваный гость шагнул в комнату так решительно, что художник невольно отступил и посторонился. Пришелец оказался, насколько можно было разглядеть в неверном свете лампы, невысоким смуглым брюнетом, с некрасивым, слегка асимметричным лицом. Огромные блестящие черные глаза гостя казались чужими на этой невыразительной физиономии. Одет мужчина был роскошно – и во все черное. При этом наряд его не украшали ни цепи, ни пряжки, лишь массивный старинный перстень на указательном пальце довершал загадочный облик.
– Мона, иди отсюда, – поспешил выпроводить из комнаты дочь перепуганный художник.
Девушка послушно вышла, только за порогом чуть замешкалась и бросила через плечо внимательный взгляд на незнакомца. Но Лукас тут же плотно закрыл за нею дверь. Пришелец успел оглядеть Мону с ног до головы цепким, оценивающим взглядом. Потом, когда девушка скрылась, перевел взгляд на портрет.
– До чего ж хороша! – восхищенно воскликнул он. – И портрет хорош!
Лицо бесцеремонно ворвавшегося в дом мужчины вдруг изменилось. Теперь оно стало почти любезным, тонкие злобно поджатые губы скривило некое подобие улыбки. Надо ли говорить, что Лукаса эта внезапная перемена перепугала еще больше!
Незнакомец меж тем внимательно оглядел мастерскую. Несмотря на сгустившиеся сумерки, сразу же заприметил злополучную вывеску из мясной лавки. Подошел к ней, склонился, разглядывая… довольно прицокнул языком.
– Замечательная работа! – низким, немного глухим голосом, проговорил он. – Особенно хороша свирель, как будто срисована со старинной гравюры! Музыкальные инструменты – вообще моя слабость. Интересно, где вы могли увидеть столь прекрасную вещь? Теперь ведь таких нигде не делают? Эта свирель изумительна, какие изящные очертания! Нынешние ремесленники разучились, мастерство утрачено, а вот в старину знали толк в музыкальных инструментах… – Незнакомец немного помолчал, пристально глядя на насмерть перепуганного Лукаса, потом, не дождавшись ответа, продолжил. – До чего же приятно встретить в этой дыре культурного человека, с которым можно поговорить о древностях. Знаете, мои парни – славные ребята, верные, бесстрашные, прекрасно владеют оружием. Они могут часами обсуждать боевые приемы, способы заточки клинков и тактику ближнего боя… да… Но вот о прекрасном с ними, увы, не поговоришь. О музыке, о живописи, о любви. О древних манускриптах, наконец!
Незнакомец замолчал, заметив лежащую на столе книгу, ту самую, с которой Лукас срисовывал свирель.
* * *
– Вот, – немного смущенно сказал Петер. – Это поможет вам не заплутать в лесу. Только она недолго будет светить, скоро заклинание начнет слабеть, а часа через два погаснет вовсе. Успеете дойти?
– Конечно, – кивнул художник, – здесь недалеко. Спасибо, мастер.
С магическим фонариком Лукас почувствовал себя уверенней, хотя светящуюся шишку держать в руках было странно и непривычно. А колдуны, больше не обращая на него внимания, вполголоса завели свои странные разговоры.
– …Не понимаю, откуда в здешнем захолустье мог появиться такой мастер, – бубнил толстый чародей, – я, межу прочим, использовал против него Кулак Огнара! Это очень действенное заклинание, уж ты мне поверь… но…
Несколько шагов прошли молча.
– А признайте, мастер Ригирт, – нарушил паузу ученик, – когда я просто стукнул его, это оказалось куда полезней.
– Случайность! – запальчиво воскликну чародей. Потом продолжил уже гораздо тише – Э… Петер, послушай, если ты пообещаешь мне не распространяться о нынешней истории, то я… я обещаю… пожалуй, через год ты получишь патент на частную практику. Мы ускорим обучение и через год… или через два года, самое большее, я добьюсь, чтобы гильдия позволила тебе…
Тут в зеленоватом свете Лукас разглядел у обочины знакомый столб.
– Благодарю, мастера, за помощь, – громко произнес художник, – и за приятную компанию! Прощайте! Счастливого пути!
* * *
В лесу было по-прежнему темно, лунный свет не проникал сквозь сплетение ветвей над головой. Но Лукас уверенно шагал по тропинке, освещенной странным магическим фонариком. Вскоре зеленоватое свечение начало слабеть, даже быстрей, чем предупреждал парень, но Лукас уже различил между стволов огонек свечи. Такой теплый, живой – по сравнению с мертвенно-зеленым светом заколдованной шишки.
Лукас подошел к окну и заглянул в мутное стекло. Свеча на столе почти догорела, а Мона, похоже, задремала, опустив лицо в сложенные ладони. Художник улыбнулся и постучал.
Дочка, как всегда, радостно бросилась навстречу, словно после долгой разлуки. Отворила дверь, обняла.
– Ну, вот, наконец-то! А ужин уже остыл… Погоди, я сейчас!
Мона поцеловала отца и убежала хлопотать. Лукас печально посмотрел ей вслед. Милая, ласковая девочка, рано осталась без матери, очень сильно привязана к отцу. Пожалуй, что даже слишком сильно. В последнее время Лукас все чаще задумывался об этом. Моне скоро шестнадцать, совсем уже взрослая барышня. А у нее ни ухажеров, ни даже подруг. Сказалась, видать, кочевая жизнь, постоянные переезды из города в город. Вот только закончил расписывать своды Дригского собора, и сразу в Пинедскую обитель работать позвали. А год-другой спустя, глядишь, снова переезжать придется. Откуда подружкам-то взяться? Хотя, справедливости ради, надо сказать, тут дело не только в частых разъездах. Иная не то, что за месяц, да в первый же день со всеми перезнакомится и тут же подружится. У детей это обычно быстро происходит. Да только не у Моны. Красивая девушка, а людей дичится, из дому лишний раз не вытащишь. Часами может наблюдать, как отец картины пишет. Или подолгу книжку с картинками листает. Лукас когда-то в Ливде у старьевщика купил. Древняя книга, буквы странно выписаны, не разобрать, о чем… зато рисунки – глаз не оторвать. Старьевщик с фальшивой увлеченностью расписывал достоинства этой книги, но Лукас и без уговоров захотел приобрести старинный фолиант.
Конечно, для художника такая реликвия – настоящая находка. Уже несколько лет Лукас ежедневно рассматривает иллюстрации, наброски делает для будущих картин. В работе большое подспорье: иной раз случалось попросту срисовать из книги… людям-то нравится.
Хорошая книга, полезная. Но для художника! А вот молодой девице могло бы и поинтересней занятие найтись. Но Мона живет заботами отца. Ждет не дождется его с работы, бросается навстречу, мгновенно замечает, в каком настроении он пришел. В тяжелые дни, как может, старается утешить. Вот и сегодня девушка сразу почувствовала неладное.
– Папа, что-то случилось? Ты печальный, растерянный такой, – с тревогой глядя на отца, спросила Мона. – И эта вывеска из лавки мясника… Зачем ты снова домой ее принес?
Лукас натужно улыбнулся.
– Все в порядке, дочурка, я просто немного устал. А вывеска… понимаешь, какое дело… Она теперь больше не нужна. Закрыл мясник лавку, решил завести другое дело, – неуклюже солгал он.
Как и всегда, Лукас старался не тревожить дочку, не рассказывать ей ни о чем плохом. Вот теперь живут они в мрачном, кишащем бандитами, городе. Все запуганы, платят разбойникам дань, слово лишнее боятся сказать. А дочка весела и беспечна, обо всех этих ужасах даже не ведает. Верит каждому слову отца. Вот хорошо ли это?
Мона взяла в руки вывеску, долго любовалась забавной картинкой.
– Какая красивая у пастуха свирель! Я как раз сегодня в книжке такую видела.
Мона притащила тяжелый том, бережно пролистнула рассыпающиеся от времени пожелтевшие страницы с неведомыми письменами. Долго смотрела на старинную гравюру. В книге картина была еще интересней – кудрявого юношу со свирелью окружают не бессловесные твари, а девушки. Слушают, склонив головы, мечтают, должно быть.
– Вот бы узнать, о чем здесь написано, – задумчиво проговорила Мона, разглядывая надписи возле картинки.
Лукас не отвечал. В голове у него все звучали странные слова, произнесенные дочерью убитого мясника: «Сам Марольд Ночь картиной интересуется».
Что они могли означать, он не знал. Было лишь совершенно ясно: хорошего ждать не приходится.
Глава 7
На следующее утро Лукас отправился в монастырь. Его ждала рутинная работа – замерять оштукатуренные поверхности, рисовать планы помещений.
Путь предстоял недалекий, по тропинке сквозь небольшой перелесок, затем мимо вековых дубов вдоль быстро бегущего ручейка к подножию холма, а там уже и до ворот обители рукой подать. Стало быть, на всю дорогу минут пятнадцать хорошим шагом, не более. Так ведь когда-то и было рассчитано, чтобы наемные мастера, ремонтировавшие монастырские здания, жили поблизости, а не тащились ни свет, ни заря аж из самого города.
Много воды с тех пор утекло, как была выстроена на развалинах эльфийского замка Пинедская обитель, много раз приходилось людям достраивать и укреплять ее быстро ветшающие стены. Были, говорят, времена, когда селился работный люд возле самого монастыря. Но только городская стража однажды снесла жилье строителей, да так, что камня на камне не осталось. А новое выстроили уже за перелеском, подальше от монастырских ворот. А почему, да зачем это сделали, какие тайны хранили много чего повидавшие стены, история умалчивает. Может, попросту некоей церковной шишке пришлось не по душе, что мужчин поселили у самой обители гунгиллиных сестер. А может, какие-то иные причины нашлись. Да Лукас особо и не интересовался. Где только ни приходилось ему жить во время частых переездов! Так что привык ничему не удивляться. Селился, где был велено, в городе – так в городе, при монастыре – так при монастыре, ну, а в лесу, – значит, в лесу. Есть крыша над головой, и ладно.
Утро выдалось сумрачное, ненастное, моросил мелкий холодный дождь. В такие дни Пинедская обитель выглядела особенно мрачно и зловеще. Не лучше оказалось и за воротами. Опустевший монастырский двор, раскисшая земля… на растоптанной в грязь тропинке мокнет под дождем оброненный платок.
Встретила художника настоятельница Гана, маленькая горбунья с сердито сжатым запавшим ртом и крохотными, колючими глазками. Молча провела в здание, что-то сердито прошамкала, показывая на небрежно покрашенные, а кое-где еще и сырые стены.
Лукас кивнул и принялся делать замеры, записывая результаты на предварительно заготовленный набросок плана. Работа была привычной, поэтому продвигалась споро. Смущала лишь настоятельница, которая все это время продолжала неусыпно наблюдать за художником. Несколько раз Лукас переходил из одного помещения в другое, спускался и поднимался по многочисленным лестницам, кружил по узким, извилистым коридорам. И всюду горбатая старуха молча следовала за ним. Только однажды, когда художник собрался спуститься по крутой винтовой лестнице, настоятельница грозно потребовала, чтобы он возвращался назад. Лукас слегка удивился, но спорить не стал. Нет, так нет… А лестница выглядела очень древней, ступени мраморные, в отличие от стен, сложенных из кирпича. Да и перила вытерты до зеркального блеска. Должно быть, ход в хранилище, решил Лукас. Понятно, что на складе росписи ни к чему.
Наконец время, отведенное ему на пребывание в обители, подошло к концу, и, попрощавшись с сердитой монахиней, художник поспешил покинуть здание.
Дождь прекратился, но небо все еще было затянуто сплошной серой пеленой. Лукас вдруг подумал, что как-то уж слишком темно нынче, даже для столь неприветливой погоды. Время-то раннее, колокол недавно к обедне звонил. Вчера в этот час солнце в зените стояло, а тут прямо сумерки на дворе.
А еще Лукас подумал, что вот надо же, как неудачно совпало, именно сегодня он собирался приняться за портрет дочери. Ведь столько раз откладывал под разными предлогами эту работу, а нынче твердо решил начать. И тут как назло – словно ночь среди бела дня наступила. Может, распогодится понемногу? Однако когда Лукас вернулся домой, стало, как будто, еще темнее.
* * *
Мона, похоже, не замечала ничего необычного. Как всегда радостно бросилась навстречу отцу, обняла, потом быстро накрыла стол. После обеда зажгла в мастерской чуть ли не все свечи, которые были в доме, уселась перед пустым холстом, приготовленным еще вчера, и замерла, будто в ожидании чуда.
Лукас тяжело вздохнул и принялся за обещанный портрет. Рисовать он любил при ярком дневном свете. Неровное пламя свечей искажало лицо, меняло выражение глаз. Художник уже решил, сделав несколько мазков, отложить работу на завтра. Но вдруг неожиданно увлекся. Краски ложились будто сами собой, лицо дочери оживало на портрете. Лукас, забыв обо всем на свете, вдохновенно рисовал. Поэтому даже не заметил, когда в мастерской неожиданно погасла свеча. Она висела чуть в стороне, у самого входа, так что художник не обратил внимания и уверенно продолжал работу, торопясь сделать побольше, пока не угас порыв, и краски словно сами ложатся на холст. Но вскоре почти одновременно погасли еще три свечи, установленные возле мольберта. В полумраке лицо Моны на холсте вдруг сделалось настолько неотличимым от настоящего, что Лукасу стало страшно. Он так и застыл с кистью в руке, не в силах оторвать взгляд от портрета. И тут одна за другой быстро погасли остальные свечи. Вскоре помещение освещал лишь тусклый свет масляной лампы висящей под самым потолком. За окном послышались шаги, и минутой позже раздался громкий требовательный стук.
Лукас кинулся к выходу, едва приоткрыл дверь… Незваный гость шагнул в комнату так решительно, что художник невольно отступил и посторонился. Пришелец оказался, насколько можно было разглядеть в неверном свете лампы, невысоким смуглым брюнетом, с некрасивым, слегка асимметричным лицом. Огромные блестящие черные глаза гостя казались чужими на этой невыразительной физиономии. Одет мужчина был роскошно – и во все черное. При этом наряд его не украшали ни цепи, ни пряжки, лишь массивный старинный перстень на указательном пальце довершал загадочный облик.
– Мона, иди отсюда, – поспешил выпроводить из комнаты дочь перепуганный художник.
Девушка послушно вышла, только за порогом чуть замешкалась и бросила через плечо внимательный взгляд на незнакомца. Но Лукас тут же плотно закрыл за нею дверь. Пришелец успел оглядеть Мону с ног до головы цепким, оценивающим взглядом. Потом, когда девушка скрылась, перевел взгляд на портрет.
– До чего ж хороша! – восхищенно воскликнул он. – И портрет хорош!
Лицо бесцеремонно ворвавшегося в дом мужчины вдруг изменилось. Теперь оно стало почти любезным, тонкие злобно поджатые губы скривило некое подобие улыбки. Надо ли говорить, что Лукаса эта внезапная перемена перепугала еще больше!
Незнакомец меж тем внимательно оглядел мастерскую. Несмотря на сгустившиеся сумерки, сразу же заприметил злополучную вывеску из мясной лавки. Подошел к ней, склонился, разглядывая… довольно прицокнул языком.
– Замечательная работа! – низким, немного глухим голосом, проговорил он. – Особенно хороша свирель, как будто срисована со старинной гравюры! Музыкальные инструменты – вообще моя слабость. Интересно, где вы могли увидеть столь прекрасную вещь? Теперь ведь таких нигде не делают? Эта свирель изумительна, какие изящные очертания! Нынешние ремесленники разучились, мастерство утрачено, а вот в старину знали толк в музыкальных инструментах… – Незнакомец немного помолчал, пристально глядя на насмерть перепуганного Лукаса, потом, не дождавшись ответа, продолжил. – До чего же приятно встретить в этой дыре культурного человека, с которым можно поговорить о древностях. Знаете, мои парни – славные ребята, верные, бесстрашные, прекрасно владеют оружием. Они могут часами обсуждать боевые приемы, способы заточки клинков и тактику ближнего боя… да… Но вот о прекрасном с ними, увы, не поговоришь. О музыке, о живописи, о любви. О древних манускриптах, наконец!
Незнакомец замолчал, заметив лежащую на столе книгу, ту самую, с которой Лукас срисовывал свирель.
* * *