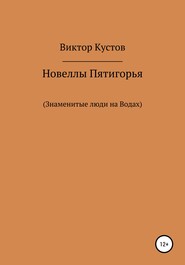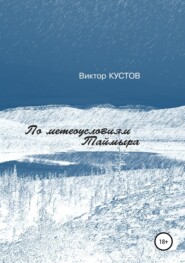По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По метеоусловиям Таймыра
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прихват в смену Ляхова. Пытался вырвать, но ничего не получилось. На канате износ… – Он помолчал, износ был на пятнадцать процентов, и скажи об этом главному, выговором не отделаешься. – Износ семь процентов, нагрузку большую давать нельзя. Меняем канат, готовим раствор и ванну.
– Всё у тебя?
– Всё.
– Ждёшь, пока прилечу?.. Ладно, Петухов, ты без надобности ничего не придумывай, мне вашей самодеятельности и так хватает. Тут вот на пятнадцатой умудрились алмазное долото в скважину упустить, сегодня к ним полечу, а завтра к вам. Только гляди, чтоб без инициативы, сам знаешь, какая у тебя вышка.
– Укрепили же, Владимир Владимирович…
– Ты мне про ходули эти и не напоминай, – закричал Безбородько. – Ты этими спичками комиссии вводи в заблуждение, а я знаю, на что они годны. Понял?.. Запомни, Петухов, вышку завалишь – под суд пойдёшь, всё. Я тебе тянуть запрещаю.
– Понял, Владимир Владимирович. До связи.
– И ещё, – трубка пошипела помехами, потом заговорила усталым голосом главного. – Если там вдруг неожиданно отклеится, ты сразу сообщи, я инженера у рации посажу. До связи.
Хитёр старик, выключая рацию, подумал Петухов. Вроде бы и запретил крепко-накрепко, а и намекнул, что жду, чтобы сами выкрутились.
Он прилёг на кровать, положив ноги в грязных сапогах на ящик, стоящий у рации, закрыл глаза. Полжизни эта ЭР-7 у него забрала. На двухсотом метре – водоприлив бешеный, пять дней задавливали, на девятисотом – поглощение. На полутора тысячах – кварцы. Потом прихваты пошли… Восемь месяцев уже сидят на одном месте. На две девятьсот – газ, ну, думал, всё, кончились мучения. Геофизики забегали, начальство прилетело, превентера проверили, а через полметра всё кончилось. Прибыл спец по нефти из НИИ. Походил, понюхал, будет, говорит, нефть, но на три четыреста. А вышка-то на три тысячи рассчитана, вот и приделали ей ходули, чтобы крепче стояла…
Коробов, конечно, виноват: поменял бы канат, Ляхов рванул посильнее, глядишь, и не было бы прихвата…
Но и Ляхова поддерживать он не хотел. Считай, полжизни люди на буровой проводят, тут все как на ладони, и плохо, когда не ладят друг с другом…
Ничего, пару месяцев осталось потерпеть, уедет Ляхов в Сирию, а он бурильщиком Устина поставит. Давно присматривается. Молчит тот, молчит, а дело знает.
– Товарищ мастер, пошёл! – ворвался в вагончик студент.
– Кто пошёл?
– Инструмент.
– Сменили канат?
– Сменили. Фёдор Васильевич потянул, и он пошёл.
– Хорошо.
Анатолий убежал.
Петухов включил рацию. Подержал в руке трубку, положил на место. Лучше подождать, нежели поспешить – это правило, которое не стоит нарушать. Он вышел из вагончика.
Солнце уже поднялось довольно высоко, небо было чистым, без облачка. Стоял один из последних тёплых дней бабьего лета здесь, на Севере. Воздух был прозрачным, и тайга прозрачной, в ржавых пятнах редких оставшихся листьев, в ней хорошо сейчас охотиться на боровую дичь. Да вот только времени за последний месяц у него совсем не было, хотя охотиться любил и, если не удавалось отвести душу, тосковал и томился этой тоской по охотничьим тропам.
Пока он шёл к буровой, серая от промывочной жидкости колонна труб медленно ползла вверх. Петухов видел, как Лёша Правдоискатель метнул в сторону свечу, и элеватор ухнул вниз, замерев лишь у самого пола: над лебёдкой поднялось облако дыма. «Спешит Коробов», – подумал он.
Коробов потянул вверх новую свечу, она вибрировала, шла неохотно, и Петухов понял: правило железное – не торопиться… Когда он поднялся на буровую, свеча уже не шла.
– Сколько протащили? – спросил Петухов.
– Метров двадцать пять.
– А давал?
– В полтора раза.
– Сто тридцать тонн… До ста пятидесяти, пожалуй, можно… Гони всех с буровой, – сказал он. – И сам тоже иди…
– Не дури, Петрович, – сказал Коробов, когда возле лебёдки они остались вдвоём. – Я глядел эти подпорки, швы слабые…
– Знаю. Все ушли?
– Да.
– Дизели?
– В норме. За канат ручаюсь.
– А ты на всякий случай не ручайся.
– Иван, сколько мы с тобой аварий перевидали?
– Не задавай пустых вопросов. – Петухов окинул взглядом приборы, включил лебёдку, сжал рукоятку тормоза. – Давай, Федя, скажи мужикам, пусть подальше отойдут, не в цирке. И стань в проёме, чтоб я тебя видел. Глаз не спускай с подпорок, понял? Если что, дай знать.
Коробов пошёл к лестнице.
Петухов прав, думал он, рисковать порой надо, но рисковать имеет право каждый только собой, и нет ничего, что можно было бы противопоставить цене человеческой жизни. Её одной не стоят ни тысячи, ни миллионы рублей, вложенных в эту буровую, на риск нельзя провоцировать, но иногда человеку самому необходимо проверить себя, пойти на риск, очиститься им, и в эту минуту он верит только в успех, в своё бессмертие…
Коробов тоже когда-то рисковал. Было это лет двадцать назад. При монтаже стала заваливаться чуть приподнятая вышка, все бросились врассыпную, а он вскочил в кабину трактора, полез под падающую громадину, натягивая тросы, задержал это падение, которое могло быть последним, что он видел бы в этой жизни. О нём написали в газете, его поздравляли, расспрашивали, что заставило так поступить, тем самым склоняя заглянуть в себя, задуматься, а что же заставило… И оказалось, что ничего из того, о чём часто пишут. Он не думал о людях, которые могут погибнуть, не думал о тысячах рублей, выброшенных на ветер, не думал о том, что пропадёт вложенный в буровую труд многих людей. Просто показалось, что если рвануть трактор, то вышка не упадёт, это было как в азартной игре, и это толкнуло его в кабину…
– Отойдём подальше, – сказал он Анатолию и Лёше Правдоискателю.
– Фёдор Васильевич, это опасно? – Студент смотрел на него, не ожидая никакого ответа, кроме одного, и, чуть улыбнувшись, Коробов кивнул.
Он поднялся на помост, где лежали запасные свечи, встал так, чтобы его видел Петухов, поднял руку, показывая, что готов, и стал смотреть на одну ногу, ту, где шов, соединяющий её и подпорку, порвался.
Петухов включил лебёдку, но дизели не взвыли, и Коробов понял, что мастер попробует погонять инструмент по скважине, раскачать его, прежде чем тянуть.
Элеватор пошёл вверх, потом вниз, снова вверх. Он напоминал огромный неповоротливый челнок, с каждым разом вытягивающий серую от стекающего раствора колонну труб на несколько сантиметров больше, потом вдруг наткнулся на что-то и задрожал. Коробов, забыв о вышке, отметил: элеватор разорвал неяркое осеннее солнце, превратив его в два раскалённых слитка, и тут взвыли дизели; он опустил глаза, но в них плыли тёмные круги, и ничего не было видно. Коробов испугался, потому что сейчас невольно мог стать убийцей. Он испугался и собрался закричать, предупредить остальных, но тут чернота рассеялась, и он увидел дрожащую металлическую колонну. Петухов держал рукоятку тормоза вверху, и Коробов знал, что сейчас всё, с самого верха, с крон-балки, до самого низа, до того места, где земля всасывает в себя металл, пронизано невообразимым напряжением, всё вытягивается, болезненно стонет, рвётся…
Он взглянул вверх – колонна ползла, но порадоваться не успел, потому что в следующее мгновение увидел, как медленно стала выгибаться подпорка, и вскинул руки. Тут же завизжали тормоза, исчезла в дыму фигура Петухова, дизели стихли.
Он поднялся на буровую.
Петухов сидел на перевёрнутом ведре из-под графитной смазки и мял в руках папиросу, не замечая, что несколько изломанных папирос уже лежат на полу, наконец поломал и эту, выругался. Коробов достал «беломорину», прикурил и отдал Петухову.
– Тяжело… – хрипло сказал мастер. – С непривычки рычаг как двухпудовка.
Замолчал.
– Всё у тебя?
– Всё.
– Ждёшь, пока прилечу?.. Ладно, Петухов, ты без надобности ничего не придумывай, мне вашей самодеятельности и так хватает. Тут вот на пятнадцатой умудрились алмазное долото в скважину упустить, сегодня к ним полечу, а завтра к вам. Только гляди, чтоб без инициативы, сам знаешь, какая у тебя вышка.
– Укрепили же, Владимир Владимирович…
– Ты мне про ходули эти и не напоминай, – закричал Безбородько. – Ты этими спичками комиссии вводи в заблуждение, а я знаю, на что они годны. Понял?.. Запомни, Петухов, вышку завалишь – под суд пойдёшь, всё. Я тебе тянуть запрещаю.
– Понял, Владимир Владимирович. До связи.
– И ещё, – трубка пошипела помехами, потом заговорила усталым голосом главного. – Если там вдруг неожиданно отклеится, ты сразу сообщи, я инженера у рации посажу. До связи.
Хитёр старик, выключая рацию, подумал Петухов. Вроде бы и запретил крепко-накрепко, а и намекнул, что жду, чтобы сами выкрутились.
Он прилёг на кровать, положив ноги в грязных сапогах на ящик, стоящий у рации, закрыл глаза. Полжизни эта ЭР-7 у него забрала. На двухсотом метре – водоприлив бешеный, пять дней задавливали, на девятисотом – поглощение. На полутора тысячах – кварцы. Потом прихваты пошли… Восемь месяцев уже сидят на одном месте. На две девятьсот – газ, ну, думал, всё, кончились мучения. Геофизики забегали, начальство прилетело, превентера проверили, а через полметра всё кончилось. Прибыл спец по нефти из НИИ. Походил, понюхал, будет, говорит, нефть, но на три четыреста. А вышка-то на три тысячи рассчитана, вот и приделали ей ходули, чтобы крепче стояла…
Коробов, конечно, виноват: поменял бы канат, Ляхов рванул посильнее, глядишь, и не было бы прихвата…
Но и Ляхова поддерживать он не хотел. Считай, полжизни люди на буровой проводят, тут все как на ладони, и плохо, когда не ладят друг с другом…
Ничего, пару месяцев осталось потерпеть, уедет Ляхов в Сирию, а он бурильщиком Устина поставит. Давно присматривается. Молчит тот, молчит, а дело знает.
– Товарищ мастер, пошёл! – ворвался в вагончик студент.
– Кто пошёл?
– Инструмент.
– Сменили канат?
– Сменили. Фёдор Васильевич потянул, и он пошёл.
– Хорошо.
Анатолий убежал.
Петухов включил рацию. Подержал в руке трубку, положил на место. Лучше подождать, нежели поспешить – это правило, которое не стоит нарушать. Он вышел из вагончика.
Солнце уже поднялось довольно высоко, небо было чистым, без облачка. Стоял один из последних тёплых дней бабьего лета здесь, на Севере. Воздух был прозрачным, и тайга прозрачной, в ржавых пятнах редких оставшихся листьев, в ней хорошо сейчас охотиться на боровую дичь. Да вот только времени за последний месяц у него совсем не было, хотя охотиться любил и, если не удавалось отвести душу, тосковал и томился этой тоской по охотничьим тропам.
Пока он шёл к буровой, серая от промывочной жидкости колонна труб медленно ползла вверх. Петухов видел, как Лёша Правдоискатель метнул в сторону свечу, и элеватор ухнул вниз, замерев лишь у самого пола: над лебёдкой поднялось облако дыма. «Спешит Коробов», – подумал он.
Коробов потянул вверх новую свечу, она вибрировала, шла неохотно, и Петухов понял: правило железное – не торопиться… Когда он поднялся на буровую, свеча уже не шла.
– Сколько протащили? – спросил Петухов.
– Метров двадцать пять.
– А давал?
– В полтора раза.
– Сто тридцать тонн… До ста пятидесяти, пожалуй, можно… Гони всех с буровой, – сказал он. – И сам тоже иди…
– Не дури, Петрович, – сказал Коробов, когда возле лебёдки они остались вдвоём. – Я глядел эти подпорки, швы слабые…
– Знаю. Все ушли?
– Да.
– Дизели?
– В норме. За канат ручаюсь.
– А ты на всякий случай не ручайся.
– Иван, сколько мы с тобой аварий перевидали?
– Не задавай пустых вопросов. – Петухов окинул взглядом приборы, включил лебёдку, сжал рукоятку тормоза. – Давай, Федя, скажи мужикам, пусть подальше отойдут, не в цирке. И стань в проёме, чтоб я тебя видел. Глаз не спускай с подпорок, понял? Если что, дай знать.
Коробов пошёл к лестнице.
Петухов прав, думал он, рисковать порой надо, но рисковать имеет право каждый только собой, и нет ничего, что можно было бы противопоставить цене человеческой жизни. Её одной не стоят ни тысячи, ни миллионы рублей, вложенных в эту буровую, на риск нельзя провоцировать, но иногда человеку самому необходимо проверить себя, пойти на риск, очиститься им, и в эту минуту он верит только в успех, в своё бессмертие…
Коробов тоже когда-то рисковал. Было это лет двадцать назад. При монтаже стала заваливаться чуть приподнятая вышка, все бросились врассыпную, а он вскочил в кабину трактора, полез под падающую громадину, натягивая тросы, задержал это падение, которое могло быть последним, что он видел бы в этой жизни. О нём написали в газете, его поздравляли, расспрашивали, что заставило так поступить, тем самым склоняя заглянуть в себя, задуматься, а что же заставило… И оказалось, что ничего из того, о чём часто пишут. Он не думал о людях, которые могут погибнуть, не думал о тысячах рублей, выброшенных на ветер, не думал о том, что пропадёт вложенный в буровую труд многих людей. Просто показалось, что если рвануть трактор, то вышка не упадёт, это было как в азартной игре, и это толкнуло его в кабину…
– Отойдём подальше, – сказал он Анатолию и Лёше Правдоискателю.
– Фёдор Васильевич, это опасно? – Студент смотрел на него, не ожидая никакого ответа, кроме одного, и, чуть улыбнувшись, Коробов кивнул.
Он поднялся на помост, где лежали запасные свечи, встал так, чтобы его видел Петухов, поднял руку, показывая, что готов, и стал смотреть на одну ногу, ту, где шов, соединяющий её и подпорку, порвался.
Петухов включил лебёдку, но дизели не взвыли, и Коробов понял, что мастер попробует погонять инструмент по скважине, раскачать его, прежде чем тянуть.
Элеватор пошёл вверх, потом вниз, снова вверх. Он напоминал огромный неповоротливый челнок, с каждым разом вытягивающий серую от стекающего раствора колонну труб на несколько сантиметров больше, потом вдруг наткнулся на что-то и задрожал. Коробов, забыв о вышке, отметил: элеватор разорвал неяркое осеннее солнце, превратив его в два раскалённых слитка, и тут взвыли дизели; он опустил глаза, но в них плыли тёмные круги, и ничего не было видно. Коробов испугался, потому что сейчас невольно мог стать убийцей. Он испугался и собрался закричать, предупредить остальных, но тут чернота рассеялась, и он увидел дрожащую металлическую колонну. Петухов держал рукоятку тормоза вверху, и Коробов знал, что сейчас всё, с самого верха, с крон-балки, до самого низа, до того места, где земля всасывает в себя металл, пронизано невообразимым напряжением, всё вытягивается, болезненно стонет, рвётся…
Он взглянул вверх – колонна ползла, но порадоваться не успел, потому что в следующее мгновение увидел, как медленно стала выгибаться подпорка, и вскинул руки. Тут же завизжали тормоза, исчезла в дыму фигура Петухова, дизели стихли.
Он поднялся на буровую.
Петухов сидел на перевёрнутом ведре из-под графитной смазки и мял в руках папиросу, не замечая, что несколько изломанных папирос уже лежат на полу, наконец поломал и эту, выругался. Коробов достал «беломорину», прикурил и отдал Петухову.
– Тяжело… – хрипло сказал мастер. – С непривычки рычаг как двухпудовка.
Замолчал.