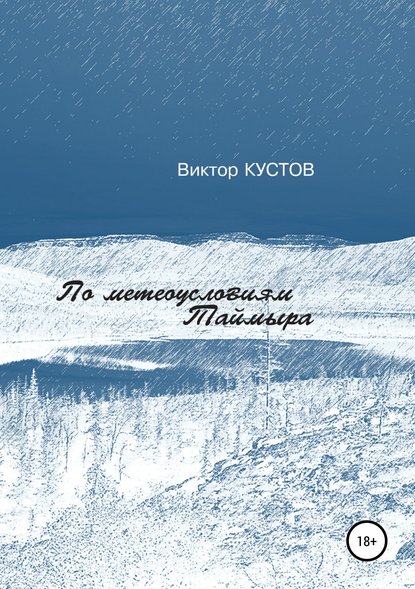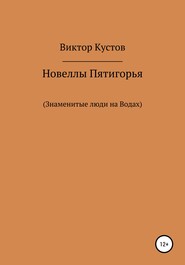По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По метеоусловиям Таймыра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женька облизнул губы, прошептал:
– Стырим пожрать, зря, что ли, тащились…
Димка отвернулся, потянул меня за гимнастёрку:
– Пошли, что вы как дети…
– Ну, лиса, – прошипел Мишаня, – этот при всех режимах выживет.
И, подобрав сосновую шишку, запустил ею в Иванова-маленького.
Шишка попала капитану в грудь, он вскочил, шагнул в нашу сторону, и я услышал неожиданно злой шёпот Мишани.
– Я первым ударю. Морды не засветите.
Но ни подраться, ни поесть нам не удалось: затрещали сучья, и в свет костра вышел маленький круглый человечек, поразительно похожий на Иванова-маленького. Только ещё меньше ростом и гораздо шире. Он опустил ведро, и капитан, женщины, наш Колобок ринулись к нему, выхватывая за жабры бьющихся лещей. Димка потянул всё рвущегося вперёд Мишаню. Женька Сухоруков тогда первый раз застонал от боли, которая позже, в последние дни его жизни уже не ослабевала ни на минуту, но он крепился, пытался улыбаться, планировал, что сделает, когда выздоровеет, успокаивал жену и благодарил за то, что я не забыл, нашёл время приехать…
– Женька! – Я упёрся лбом в Женькин лоб, ощущая его тепло и даже слыша, как в его виске стучит кровь. – Рванём после лекции в кино?
– Куда?..
– А куда-нибудь… Только… Ольгу пригласи, а?
Я уткнулся в листок, выискивая слово, в котором было бы побольше букв, но всё-таки не удержался, взглянул на красивое и спокойное лицо Сухорукова. Я завидовал ему и удивлялся. О любой из его знакомых девушек мы могли мечтать, но ни одну из них он не выделял, не переживал слёзы очередного признания-разрыва, он верил, что будет счастлив, и был счастлив…
– Колобок, – произнёс я и тут же опомнился: не прозвучит ли оскорблением студенческое прозвище спустя столько лет? Кто знает, кем и каким стал Иванов-маленький, настырно пытающийся перейти мне дорогу и объявивший ещё на первом курсе, что Оля обязательно будет его женщиной…
Записочная эпидемия стала разрастаться – верный признак, что близится к концу последняя лекция. Из-под руки, не оборачиваясь, выстрелила бумажным шариком Наташка Голубец, и её шарик попал мне в щёку, я медленно развернул его, выражая полное презрение к этой игре и стараясь не упустить из поля зрения Олю.
Наташка приглашала в театр…
Я пошёл тогда в театр, хотя сначала отказался – вместе с Женькой и Олей мы собирались в кино. Я волновался, ожидая Олю. А Женька лежал на кровати, закинув руки за голову, и размышлял вслух, к кому бы из девочек сегодня сходить на ужин, когда она вошла. Я слишком суетился в молодости, по-видимому из-за какого-нибудь комплекса, и слишком торопил события. И когда они ушли вдвоём, Женька с выражением полного непонимания, а Оля радостно (так мне показалось), я проклял свою трусость, ревность, свою лжеболезнь и ворвался к Наташке без стука, застав её торчащей в купальнике перед зеркалом, и даже не смутился от её визга, а лишь отвернулся к стене, ожидая, пока она оденется. И мы пошли в театр, А ты ведь красива, Наташа, Наталья Гавриловна Проскурина…
И почему раньше я этого не замечал?
Или, может быть, женщины становятся красивее с возрастом?
Только с чьим возрастом, моим?..
После театра мы с тобой целовались, и ты удивлялась моей смелости, ты была счастлива, ты меня любила… И тогда, и потом… Ты так меня любила, что я сбежал от тебя сразу же после нашей свадьбы, а ты очень хотела, чтобы у тебя был мой ребёнок… Но у нас ничего бы не получилось, даже если бы он появился… Я уехал тогда искать Олю, я поехал увозить её от мужа, но так и не нашёл, не увёз…
У тебя хороший муж, ты счастлива, твой сын будет прекрасным геологом, это я тебе говорю, начальник управления, научившийся за эти годы отделять зёрна от плевел… На старости лет мы с тобой ещё порадуемся внукам, неторопливо погуляем по скверику, и, может быть, тогда ты мне расскажешь об Оле, ведь у меня всё равно не будет сил, чтобы полететь к ней…
Но вот я сегодняшний, – я люблю тебя ту, гладко причёсанную и говорливую, хотя ты не можешь соперничать с Олей…
Влетел Мишаня, плюхнулся рядом на скамью, больно задев бок чем-то твёрдым, и я вспомнил о ноже… Об этом самодельном окровавленном ноже, оборвавшем жизнь самого бесшабашного из нас.
– Старичок, – прошептал Мишаня, – ключ у тебя? Давай, подамся я спать.
Я протянул ключ.
Он подкинул его на ладони, оглядел аудиторию и во весь рост вышел, уже не таясь.
…Вот и тогда, как мне рассказывали, он, за четыре часа до этого бродивший по хрустящим якутским снегам и теперь ошалевший от весенних запахов, удачливый северянин в шубе и унтах не по сезону, с «дипломатом», в котором лежало обещание красивой жизни, о которой он всегда мечтал, шёл через сквер перед аэровокзалом, к своей очередной «коровке» (он и при людях называл их так, но они любили его, как это ни парадоксально), говорят, шёл, чтобы сказать наконец, что увезёт единственную достойную его (для этого и отпросился на недельку), шёл по городу, где прошла его юность, не боясь ничего, потому что всё здесь было родным и безопасным, и когда нож вошёл ему в спину, он сразу даже не понял, что это, и бросил, не оборачиваясь: «Кто там шутить вздумал». А когда рванули «дипломат» Мишаня, уже зверея от боли, развернулся, выкинул вперёд руку, натруженную двухсоткилограмовыми буровыми «свечами», подцепил тонкую шею убийцы, и, падая, подмял под себя, так что подъехавшие милиционеры прежде бросились спасать того, пока не увидели нож…
И вот ты, Мишаня, заставивший мать похоронить тебя, уходишь спать.
Может быть, ты жив не только в этой аудитории, но и за пределами её тайны…
Но ты ушёл, а я остался.
И Женька ушёл, он всегда следом за тобой выходил из аудитории, хотя никогда не торопился, как ты, но почему-то всегда получалось именно так.
Потом выходила…
Неужели в этом тоже есть закономерность?..
Нет, это чушь, это мистика, а мы реалисты, и всё в прошлом, и в настоящем реально, как эти серые стены и старая арка, как реальна моя Валентина, которую я нисколько не ревную к Женьке, я хожу к нему на могилу вместе с ней, и наши сыновья, его и мои, – это мои дети, и я люблю его так же, как любила Валентина. Потому что ревновать глупо и стыдно.
Но всё-таки я хочу спросить Олю, как сложилась её жизнь, ведь ради этого я и пришёл сегодня в аудиторию. И она выпустит меня отсюда к моим привычным делам и заботам, к моим болезням и огорчениям, к моей семье и к моим радостям – словом, к жизни.
Выпустит, если я… не спрошу Олю…
Кто написал на доске об этом?
Почему на меня так смотрят?
Почему вы повернулись ко мне, ведь лекция ещё не закончена, звонок не прозвенел?
И чего ждёте от меня?
А если я спрошу, что изменится в моём бытии?..
…Оказывается, на улице давно рассвело. В огромной махине института – тишина. Я ещё раз оглядываюсь и медленно иду к горизонту…
К пробуждению.
Пять дней в сентябре
5 сентября. Ночь
Проснулся Коробов от тишины. Она была так обманчиво похожа на другую тишину, что он воочию увидел остывающие угли, белеющие линии удилищ, спохватился, что надо бы разжечь костёр, вскипятить чай, а то можно и так, не сдерживая нетерпения, рвануть к перекату, закинуть удочку под первый, облюбованный издали камень, в пенный круговорот подвести мушку.
Обойдусь без чая, решил он, и вдруг что-то в этой тишине показалось ему странным. Он открыл глаза.
Над головой матово отсвечивал потолок вагончика, свет от лампочки, висевшей на столбе за окном, пронизывал красновато-жёлтым лучом.
Почему тихо, подумал он, и, словно подслушав его мысли, забубнил один дизель, потом другой…