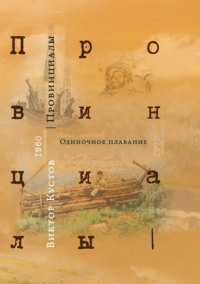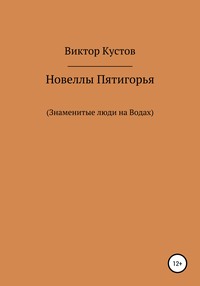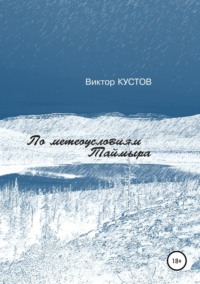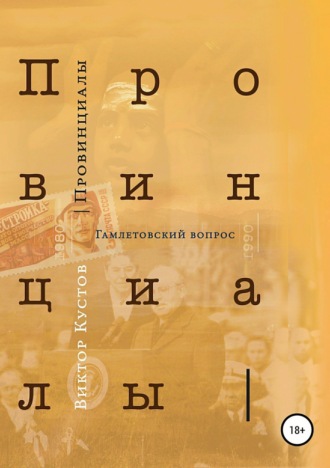
Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос
Будучи сугубо штатским человеком, Сашка тем не менее ощущал себя в офицерской форме привычно и легко. На учебных сборах после института (без пяти минут инженеры, они еще числились курсантами) капитан Лазуткин, четыре раза принимавший участие в параде на Красной площади и гордившийся этим, словно свершенным подвигом, несмотря на ежедневное потребление ста, а то и больше, «наркомовских» граммов, маршировавший так, что никто не мог в этом факте его биографии усомниться, не раз выводил Сашку перед строем сокурсников, используя в качестве наглядного пособия – как на настоящем офицере должна сидеть форма.
От тех двух жарких месяцев, проведенных в остро пахнущем хвоей сосновом бору на юге Иркутской области, у него остались неплохие воспоминания, хотя, собственно, вручение офицерских погон он почти не запомнил. Может быть, оттого, что слишком азартно они обмыли получение лейтенантских звездочек.
В памяти остались курсантские самоволки в недалекий городок за сигаретами и прочими цивильными радостями, воровство огурцов на колхозном поле, долгие уроки Лазуткина на плацу, не вызывающие радости, изнурительные марш-броски с полной выкладкой в июльский полдень…
Уже офицером запаса он спокойно прожил год, хотя и был готов идти служить в ту же Монголию, откуда – в его бытность студентом – приезжали по-гусарски настроенные офицеры-срочники из предыдущего выпуска. Но такой потребности уже не было. Его безжалостно призвали на военные сборы, когда Сашка уже не хотел этого – спустя всего три месяца после свадьбы, и сорок дней, пронизанных тоской по молодой жене и бессмысленностью всего окружающего, он прожил в забайкальских степях на границе с Китаем.
Сборы, на которые их, офицеров запаса, забрали в течение вечера, ничего не объясняя и оставляя в неведении родных, были приурочены к большим всеармейским учениям. Неделю их продержали на пограничной заставе, где распределили по ротам и взводам (Сашка был назначен командиром второго взвода второй роты саперного батальона), рассказывая о международном положении и попутно знакомя с бытом пограничников. Быт этот был более похож на рутинную работу: солдаты днем и ночью уходили и приходили, отсыпались, получали наряды на хозработы от скучающих офицеров, что их нисколько не огорчало, и даже наоборот, позволяло отдохнуть от многочасовых маршрутов в полном обмундировании и с боевым комплектом под палящим солнцем.
Появление гражданских (с их точки зрения) несколько оживило службу, разнообразив ее последними новостями из многоцветного мира, в котором жили, не скучая, их родные и любимые, разговорами воспоминаниями и мечтами по дембелю, кому близкому, а кому еще ой какому далекому, и возможностью не экономить на сигаретах.
Спустя неделю в одну из ночей призванных офицеров заставили принимать и везти в голую степь пьяных до невменяемости «партизан», разновозрастных солдат-запасников. И в этой знойной степи под громкий стрекот потревоженных цикад с больными с похмелья солдатушками они разворачивали палаточный городок, в котором еще неделю изнывали от жары, прячась под пологами задранных палаток и спешно собираясь по взводам, когда меж сопками взвихривался жгут пыли, предвещающий прибытие вечно спешащего майора – комбата, чтобы хмуро выслушать традиционную накачку за сбившийся строй палаток, неряшливых солдат, собственное настроение – одним словом, за все, что бросалось в глаза, после чего неизменно следовал приказ усиленно заниматься политической подготовкой и ждать.
Жара сменилась неожиданным похолоданием и дождями, солдаты начали чихать и кашлять, молодые – бегать на неблизкую ферму за самогоном, те, кто отслужил свое пару десятков лет назад, жаловаться на ревматизм, радикулит и прочие хвори – хорошо, что им привезли шинели, которые на пару дней продлили иллюзию сухой и теплой жизни. А еще три дня, пока шел дождь и шинели вобрали столько влаги, сколько могли, солдатики прели в палатках, чтобы при возврате первых солнечных дней занять все подсохшие проплешины шинелями, выпаривая впитавшуюся в них холодную влагу…
Запомнилась эта служба еще и маленьким приключением, о котором, собственно, он и рассказал. Сашкин замполит, младший лейтенант Валера, маленький, жилистый тридцатипятилетний шахтер из недалекого поселка, уговорил его на выходной день смотаться к нему в гости. На попутках они добрались до небольшого, но неожиданно аккуратного и совсем не черного шахтерского поселка. Только устроились за хозяйским столом, как заглянул сосед, высокий (на пару голов выше Сашки), худой и нервный Серега, недавно вернувшийся из мест действительно не столь отдаленных (лагерей в этих местах было предостаточно), где отмолотил «семерик» за давнюю поножовщину на танцплощадке. Ошалевший от свободы, уже изрядно отметивший ее, Серега собирался гулять и дальше и по-соседски поделился этим желанием. Радушный Валера, тоже после пары рюмок ощутивший вкус свободы, его поддержал, отправив недовольную жену к теще.
Они засиделись до утра, отчего на рассвете все трое воспринимали окружающий мир весело и азартно и на Валерином трехколесном мотоцикле поехали на другой конец поселка, куда Сереге надо было позарез явиться к «пахану», доставить нечто пересланное с ним из мест, в которых тот провел без малого «четвертак»…
Пахан оказался маленьким, еще ниже Валеры, и сморщенным старичком, но с колким до неприятности взглядом выцветших, каких-то бесцветных глаз. Они допили за встречу бутылку водки, которая у него была, потом Серега с Валерой покатили в магазин, а хозяин стал рассказывать Сашке свою жизнь. Дойдя до точки, с которой начинался отсчет двадцати пяти лет отсидки, он, для большей наглядности, принес из сарая топор и, багровея лицом, стал размахивать им перед Сашкой, уносясь в те годы, когда Сашки еще и на свете не было, а в этом доме, в этой комнате молодой тогда хозяин-шахтер зарубил сначала подлого друга – любовника его молодой жены (на том самом месте, где сейчас Сашка, злодей и сидел), а потом и неверную жену…
Сашке казалось, что этот рассказ, сопровождаемый матом, всхлипываниями, пьяными слезами и сверканием острого лезвия топора, длился бесконечно долго, и он всяческими вопросами-уточнениями старался оттянуть кульминационную точку рассказа, не спуская глаз с блестящего лезвия, и, когда распахнулась дверь и шумно ввалились Серега с Валерой, обмяк на деревянной лавке (на которой и сидел тогда любовник), обессиленный так, словно только что перекрыл рекорд знаменитого Стаханова…
Но полностью он избавился от наваждения красных, вывернутых в злобе глаз пахана только через пару дней, когда наконец-то комбат привез долгожданный приказ и они среди вновь зазеленевших после дождей сопок начали сооружать командный пункт армии, куда должен был уже через несколько дней прибыть министр обороны со свитой высоких чинов. Автоколонны с элементами блиндажей и укрытий шли теперь непрерывной вереницей днем и ночью, и днем и ночью они рыли котлованы, составляли бетонные элементы, превращая их в подземные дома, засыпали их песком, маскировали пожухлым дерном, и у солдат уже не оставалось сил бегать на ферму – они способны были только добраться до нар и захрапеть, еще не упав на них…
Эти пять дней спрессованного времени и предельной концентрации человеческих сил в конечном итоге оказались не нужны никому, учения вдруг отменили, министр не приехал, так и недостроенный командный пункт с врытыми в склоны бетонными элементами бросили среди сопок…
Сдав обмундирование, штатские офицеры пригласили на суд чести комбата, высказав ему все, что думали о бездарном проматывании народных денег. Тот сначала пытался отстаивать честь мундира, а потом махнул рукой: признался, что ему и самому бардак этот осточертел так, что впору застрелиться, и, прощеный, остался на последнее дембельское застолье для оторванных от гражданских дел инженеров…
А еще Сашка расписал новым знакомым забайкальскую природу (никто из них в Сибири еще не служил): тайгу, сопки и степь да ничем не примечательный, кроме того, что она китайская, вид на ту же степь за пограничной полосой, признав, что здешнее турецкое заречье смотрится гораздо веселее.
А потом они с начальником заставы предались более приятным и объединяющим воспоминаниям о реке их общего, пусть и за сотню верст отсюда, детства…
К месту вспомнился и дядя Саша, брат матери, единственный военный среди родни, который закончил службу подполковником в отставке в мирном Бресте, а перед этим много лет командовал вот такой (а может быть, этой самой?) заставой на советско-турецкой границе. Капитан тут же приказал поднять все архивы, но среди его предшественников Полоцкий не значился, и он пообещал в течение суток выяснить, на какой заставе тот служил. И выяснил: это была далекая от них горная застава – некогда самый напряженный участок границы.
– Не зря твоего дядьку потом в Брест направили, нелегко ему пришлось…
– Майора ему на этой заставе дали, – вспомнил Сашка.
– Вот и говорю, в райские места дослуживать нас просто так не направляют.
Из рассказов дяди Саши о службе, которые довелось слушать, когда с родителями и дядей Семеном еще в его студенческие годы нагрянули к родне в Брест, в маленькую, но уютную квартирку рядом с крепостью, Сашка только и запомнил, что служба в здешних местах была жаркой и нервной…
Эта неделя на пограничной заставе в Армении показалась Жовнеру одновременно и тягучей, и стремительной. Так бывает, когда однообразие окружения чередуется с новизной событий. Застава лицом смотрела на берег быстрой речки, перед которой тянулись высокие проволочные стены с тщательно разрыхленной контрольной полосой между ними, караульными вышками по краям. Вдоль этих стен и ходили пограничные наряды. Сашка тоже вместе с начальником заставы сходил в ночной дозор.
От реки тянуло прохладой. Совершенно мирные звуки: блеяние овец, лай собак, удары металла о металл (может быть, над срочным заказом, несмотря на ночь, работал кузнец-турок), редкий гул машин – доносились с чужой земли. Всматриваясь в пятно от фонарика и боясь пропустить след нарушителя, Сашка шел за начальником заставы, слыша за спиной дыхание старшего наряда и испытывая странное чувство нереальности происходящего, втайне надеясь, что именно в эту ночь шпион наконец-то перейдет границу и все завертится, как в кино… Но взрыхленная полоса была чиста… А наружу просились слова из песни Высоцкого: «…А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты… ». Хотя цветов-то как раз и не было…
…На следующий день он поднялся на вышку над заставой и долго в бинокль разглядывал небогатые домики за рекой, над которыми возвышалась мечеть, откуда утром и вечером доносился зычный и поразительно мелодичный голос муэдзина. В бинокль можно было разглядеть турок, занятых повседневными заботами и отличающихся от тех, кто находился на этом берегу, разве что одеждой. Порой кто-нибудь из них спускался к воде, и тогда из рации доносился искажаемый помехами голос старшего наряда на другой вышке, стоящей возле полосы. Но заставу в ружье не поднимали, и только один раз за всю неделю по сигналу спешно выехала группа перехвата, когда иноземный осел перешел речку и стал приближаться к проволочной стене. Но пока «газик» пылил по иссушенной земле, хозяину, выбежавшему к самой воде, удалось вернуть нарушителя границы обратно.
Дальше за селением над турецкой землей возвышалась вершина горы Арарат – настолько близкая, что человеку с хорошей фантазией несложно было вообразить, что и эта долина, и турецкий поселок на том берегу, и армянский на этом, начинающийся за тыльной стороной заставы и прячущийся среди садов и виноградников, и отроги более низких, чем Арарат, гор некогда были дном моря, над бескрайней поверхностью которого ткнулся в обновленную и очищенную землю ковчег Ноя…
Пацаны жили по армейскому расписанию, опекаемые сержантами ходили в дозоры, несли службу, осваивали кухонные обязанности, занимались физической подготовкой, а Сашка со Славой Дзуговым познавали жизнь офицеров в этой прокаленной долине, избавляясь от зноя и пыли ежевечерней баней, от однообразия буден долгими разговорами за стремительно уменьшающимися запасами коньяка.
Эти разговоры заканчивались далеко за полночь, что, впрочем, не мешало и командиру заставы, и остальным офицерам как положено нести службу, демонстрируя недюжинное здоровье и выносливость.
Для гостей же короткий сон, ранние подъемы и застегнутая на все пуговицы форма казались иезуитской пыткой, которую они с трудом – только по крайней необходимости – выдерживали…
Накануне отбытия приехал не утративший жизнерадостности Арик.
На этот раз он привез с собой комсорга погранотряда и десятилитровую канистру с таким же отменным коньяком, и эта ночь была бессонной, запомнилась мудрыми словами длинных кавказских тостов и долгим прощанием, отчего обратная дорога и Ереван, по которому на этот раз медленно и по специальному маршруту их провезли гостеприимные хозяева, выпали из памяти. Осталось лишь впечатление от горького сожаления экскурсовода, молодой яркой армяночки, об армянской горе Арарат, возвышающейся совсем рядом и все же за пограничной полосой, при том, что она является свидетелем многовековой истории этого древнего христианского народа… (Государство Урарту, развалины Эребуни и сегодняшний Ереван, основанный в 782 году до нашей эры, смотрящий в сторону Арарата, – как не гордиться такой историей…)
В поезде они со Славой отпаивали себя кефиром, крепким чаем и даже не пытались заигрывать с проводницами, предаваясь неторопливым разговорам, сну и ощущая некое объединяющее их родство, которое возникает от совместно пережитого.
Дзугов был похож на Сашкиного двоюродного брата (и тоже ведь Слава!) – такой же уверенный в себе, нравящийся женщинам, ненавязчиво внимательный и корректный. Он совсем не вписывался в типаж комсомольского функционера. К концу поездки Сашка наконец догадался, отчего: у Славы напрочь отсутствовал карьеристский дух, без которого комсомольский лидер был просто немыслим. А отсутствовал он по причине семейного воспитания (единственный сынок в генеральской семье, все получал само собой, без напряжения и усилий), фамильной влиятельности и внешности. Он легко и не особо утруждаясь учился, без медали, но с вполне приличным аттестатом закончил школу, а затем с неплохим средним баллом и институт. Не слишком перебирая, дружил, отчего среди его знакомых были и уголовники, выросшие из друзей по двору, и дипломаты, названивающие ему из жарких африканских стран.
Он охотно позволял в себя влюбляться всем желающим (а таких было немало), не ощущая себя обязанным ни до, ни после каких бы ни было отношений, поэтому уже пару раз был ненадолго женат, уступив натиску наиболее настойчивых поклонниц, правда, без всяких штампов в паспорте. Ушедшие женщины отзывались о нем нелицеприятно, обвиняя в мужском бессилии. Но те, кто еще не утратил надежду на законный брак, были убеждены, что это низкая не более чем недостойная месть…
Сам же Славка признался, что за прожитые четверть века он так ни разу и не влюблялся по-настоящему. Если вдруг и мелькала на горизонте взволновавшая его девушка, то, как правило, крутившиеся подле поклонницы перекрывали все пути сближения.
– Я слабый человек, – признавался он. – Я все время плыву по течению. В школе мама возглавляла родительский комитет, двоек мне не ставили, даже когда уроки совсем не учил и заслуживал. В институте декан хорошо знал моего отца, а принципиальные преподаватели не попадались. В крайкоме, сам понимаешь, главное исправно функционировать, что особых усилий и напряжения серого вещества не требует. От меня ничего не требуется, кроме как просто держаться на плаву. Держаться я научился, а вот смогу ли самостоятельно плыть?..
– Что тебя заботит? – успокаивал Сашка, который от этого признания ощущал свое старшинство еще больше. – У тебя все расписано: станешь заведующим отделом, потом каким-нибудь секретарем, наконец первым… А дальше партийная карьера…
– Я понимаю, – морщился Вячеслав, то ли с похмелья, то ли от этих слов. – Но это меня и не радует…
– А чего ты хочешь?
– Влюбиться… Так, чтобы на коленях перед ней ползать…
– Ну, Славик… – Сашка даже растерялся от такого признания. – Влюбиться, согласен, стоит… А ползать зачем?
– Чтобы не ушла…
И на этот раз Сашка не нашелся, что сказать…
Прощаясь, договорились, что будут встречаться не только по делам.
– В вашей редакции у меня теперь два друга, – сказал Славка, – Витя Красавин и ты. Надо бы как-нибудь втроем посидеть…
– Надо, – согласился Сашка и предложил не затягивать с осуществлением намеченного.
Но то, что казалось легко осуществимым под ритмичный перестук вагонных колес, вдали от каждодневной суеты, на деле все откладывалось и откладывалось.
Сначала Сашке надо было отписаться за командировку, наверстать упущенное в отделе (хотя Смолин и старался, но явно опыта ему не хватало), разделаться с накопившимися долгами по авторским материалам. В конце недели Славка позвонил и предложил посидеть втроем в кафе в выходные, но в пятницу Сашка отпросился у Заворотнего пораньше (за две недели соскучился по жене и дочке) и сразу после обеда уехал в Черкесск.
Думал, эти дни проведут втроем, наслаждаясь самым приятным обществом любящих и любимых людей, но не получилось: Леша Ставинский в субботу пригласил на премьеру дискотеки, а бывший условный начальник Адам попросил «не в службу, а в дружбу» встретиться с членами литобъединения, пожелавшими обсудить свои новые творения.
Так один выходной и пролетел: сначала на литобъединении, которое активно помогал вести Ставинский, хвалили и ругали друг друга за удачно и неудачно найденные сюжеты и стихотворные строки, а потом все вместе пошли на дискотеку, чтобы после феерического и весьма оригинального действа, сочетающего текст (Сашке не стыдно было за свой сценарий), игру доморощенных актеров и современные музыкальные композиции, в маленькой комнатке на задворках клуба, попивая вино, обсудить премьеру, азартно поспорить о вкусах и наконец, когда уже никто никого не слышит, прокричать собственные стихи…
Из-за субботы и воскресенье прошло не так, как ожидалось. Елена молчала, демонстрируя обиду, и только к вечеру ему удалось добиться прощения, которое окончательно закрепилось уже глубокой ночью после страстных ласк и признаний в любви…
…В понедельник, уже в Ставрополе, он решил узнать о судьбе своей рукописи, сданной для публикации в альманахе. Нежный женский голосок на другом конце провода попросил подождать «одну минуточку», но эта минуточка затянулась на добрых пять, наконец уже другой, менее учтивый мужской голос сообщил, что в ближайшее время ему будет дан письменный ответ. Он не стал уточнять, уже догадываясь, какой именно, и попросил прислать письмо на редакцию.
Письмо пришло к концу недели, и в нем, совсем коротком, начинающемся словами «к сожалению» (сам с этой фразы обычно начинал ответ юным стихотворцам и престарелым графоманам, которые постоянно слали свои сочинения в газету) и подписанном главным редактором альманаха, сообщалось, что повесть не может быть опубликована по причине «не подходящей тематики и неверного отображения советской действительности»…
«Неверное отображение» его очень обидело. Он разыскал номера телефонов и позвонил руководителям семинара, рекомендовавшим повесть к публикации, двум известным и авторитетным в крае прозаикам. Оба высказали удивление таким ответом и пообещали поговорить с главным редактором, а если необходимо, написать положительные рецензии.
Переложив эту заботу на плечи других, он с азартом взялся за работу, завалил Кантарова подготовленными для публикации письмами, сдал свой очерк о поездке, который тут же вышел и был отмечен как лучший. Неделя пролетела незаметно.
На этот раз он замечательно провел выходные в семейном кругу.
И Елена была ласкова и нежна, и Светка не болела и не огорчала.
Следующая рабочая неделя началась с небольшой стычки с Кантаровым по поводу заметки Смолина. На этот раз Жовнер отступать не хотел, и Кантаров это понял – упираться не стал и заметку в газету поставил.
За текущими делами Сашка почти забыл о повести, но писатели оказались людьми обязательными и до конца недели позвонили оба, правда, с одинаковым сообщением, что редактор почему-то уперся и они никоим образом повлиять на него не могут, а рекомендация совещания, увы, не является обязательной для исполнения…
Жовнер огорчился от такого необъяснимого разночтения его повести уважаемыми писателями и каким-то редактором, хотел сначала сам сходить к нему, но, перечитав ответ еще раз, понял, что это ничего не даст, и от такой безысходности вдруг начал писать роман.
Теперь день у него делился на две неравные части. Первая, маленькая, выпадала на утро, до того как редакция заполнялась сотрудниками (он приходил на час-полтора раньше), и на обеденный перерыв (перекусывал бутербродами или пирожками), когда он писал роман, и остальная, большая, занимавшая все остальное время и заполненная всякими, менее приятными событиями.
Пока отписывался и приходил в себя после командировки, редакционные интриги его не задевали. Но потом, хотя и старался этого избегать, он все же столкнулся с Кантаровым. К материалам самого Жовнера тот относился лояльно. А вот к тому, что писал его сотрудник, был беспощаден и, как считал Сашка, часто несправедлив. В конце месяца он демонстративно вернул Сашке все письма, подготовленные Смолиным, с едким замечанием, что в обязанности заведующего отделом входит не только написание собственных материалов, но и работа с корреспондентами.
Он официально, через Олечку, попросил Сашку зайти к нему, изрекал все это тоном прокурора, уверенного в своей правоте, излагающего истину если не преступнику, то уж, несомненно, его подельнику. Все это время дверь в кабинет была открыта, и на его зычный голос не преминули заглянуть любопытствующие – в первую очередь улыбающаяся Селиверстова и не сумевшая скрыть удивления Марина, чей кабинет находился рядом.
Жовнер молча выслушал обличительную тираду и, ни слова не говоря, вышел. Вернувшись к себе, стал просматривать письма.
Кантаров, не удовлетворенный такой реакцией, пошел по редакции и, наконец, вылил не растраченное раздражение в кабинете Кости Гаузова, хоть и не талантливого, но работящего хроникера, исправно освещающего все спортивные события. Тот пытался защищаться, что еще больше распалило ответственного секретаря, и он зашел к Березину, там наговорил кучу гадостей.
Его голос раздражал и отвлекал, и Сашка, демонстративно захлопнув дверь, стал просматривать подготовленные Смолиным письма, не нашел ничего, что явно бросалось бы в глаза и требовало редактирования, разве что несколько лишних слов. Подбодрил сжавшегося за своим столом сотрудника, заметив, что не понимает, почему Кантаров вернул подборку, и пошел к редактору.
Заворотнего на месте не было. Олечка интригующе молчала, не сообщая, где он может быть, и только намекнула, что, вероятнее всего, того уже до конца дня не будет. Жовнер зашел к заместителю редактора Кузьменко.
Он был самой незаметной в редакции фигурой, редко выходил из своего кабинета, а основной его обязанностью была вычитка газетных полос, и единственные, кому он регулярно устраивал разносы, были корректоры, потому что Женя Кузьменко всегда находил если не орфографические, то синтаксические ошибки. Его грамотность, эрудированность и хороший литературный вкус были теми самыми китами, на которых держался его авторитет. Первое время Сашка задумывался, почему, являясь вторым человеком в редакции по должности, Кузьменко практически остается постоянной «свежей головой» и никак не влияет на рабочий процесс. Потом понял, правда, не без подсказки Красавина, что именно это поведение отстраненного советчика в конфликтах и миролюбивая позиция по отношению и к правым, и к виноватым на заседаниях редколлегии, когда он предлагает тот или иной компромисс конфликтующим сторонам, и позволяют Кузьменко слыть человеком пусть и не очень заметным на своем месте, но необходимым в редакции. К его оценкам прислушивался в свое время Белоглазов, который, собственно, и поставил его заместителем (прежде Кузьменко заведовал отделом писем) и, насколько было известно, поддерживал со своего нового, влиятельного места. Зная это, Заворотный последнее время тоже не торопился высказывать свою точку зрения, предоставляя право первым высказаться заму…
Кабинетик у зама – маленький, заваленный книгами. Они стопками высились на двух свободных стульях, на подоконнике и даже на полу возле батареи, не говоря уж о заполненном до предела небольшом книжном шкафу. Это были его личные книги. Преобладали справочники и новинки, которые регулярно появлялись и после прочтения всеми желающими исчезали в большой серой плечевой сумке, с которой Кузьменко не расставался. Чаще всего сотрудники редакции в выходные дни натыкались на него в букинистическом отделе Дома книги, где у Евгения были свои, скрытые от посторонних отношения с продавцами.