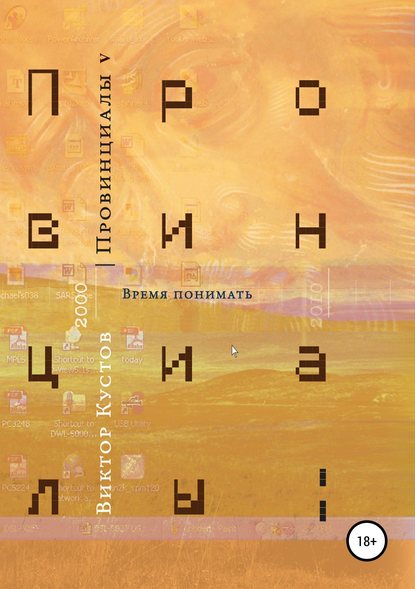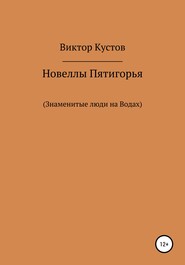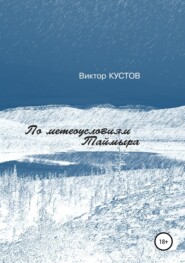По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциалы. Книга 5. Время понимать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда-то в школьной юности она сожалела, что ей не довелось родиться раньше, не пришлось защищать Родину в лихую годину. Она не сомневалась, что перед лицом смерти поступила бы так же, как Зоя Космодемьянская или молодогвардейцы, и сейчас ее подвиг был бы примером для новых поколений. Будучи уже комсомольским, а затем партийным функционером, сталкиваясь с пассивностью и отсутствием самоотверженной любви к стране, которой обладала она, Духина поняла, что либеральничать, давать поблажки противникам существующего порядка нельзя. Особенно в идеологических вопросах.
Порой партийные решения рождали в ней смутные сомнения, но она решительно избавлялась от них, обвиняя себя в собственном непонимании того, что так ясно старшим товарищам. Став партийным работником, она с гордостью осознала, что ей выпало родиться и жить в уникальном крае, можно сказать, настоящей кузнице партийных кадров.
Отсюда начинался взлет одного из главных идеологов социалистической страны Суслова, здесь работал секретарь ЦК Федор Кулаков, на этой земле родился Андропов. Избрание же Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС считала для себя праздником: она с ним была знакома и не сомневалась, что так высоко поднявшийся земляк не забудет о ней. Но земляк вдруг затеял перестройку, которую она не понимала. Но все же, хотя и не с таким азартом, как делала все до этого, продвигала в жизнь и гласность, и ускорение…
Правда, постепенно этот ее тайный праздник становился все менее и менее радостным и наконец стал днем печали: на исторической сцене появился медведеподобный, грубый и наглый, предавший идеи коммунизма Ельцин, выросший где-то на окраине страны. Ей было по-женски жалко и вдруг растерявшегося земляка, и расстроенную Раису, которую она помнила совсем другой – уверенной, самодостаточной, счастливой, какой может быть только любимая и любящая женщина.
Этот уральский увалень и грубиян, невесть каким образом попавший в Москву и фактически, как она считала, предавший своих товарищей, упразднил партию, лишил ее любимого дела, должности, уважения, ей пришлось ходить в подчинении тех, кто еще совсем недавно боялся зайти к ней в кабинет. И когда бывший коллега предложил помочь ему на выборах, с маленькой надеждой на победу, она какое-то время колебалась, преодолевая в себе нежелание пусть и опосредованно, но все же содействовать нововведениям разгульного президента. Но потом решила, что Москва все же далеко, а за край надо бороться, выдернуть его из рук демократической своры. И когда они, неожиданно для себя, выиграли выборы, она уже без колебаний приняла предложение стать заместителем губернатора, взявшись исправлять то, что нагородил занимавший этот кабинет до нее демократ и карьерист Красавин…
…В списке записавшихся в этот день на прием был главный редактор частного журнала Жовнер. Может быть, в комсомольскую бытность она и сталкивалась с ним, тот работал в восьмидесятые годы уже прошлого века в комсомольской газете, но скорее всего не часто, потому что эта фамилия ей ничего не говорила. Вопрос, по которому тот записался на прием, был в ее компетенции, он просил содействия по распространению литературного журнала, который начал издавать. Она просмотрела несколько первых номеров, журнал показался ей интересным, решила, что помочь надо, литературу она любила, а к писателям относилась с уважением. Но на всякий случай попросила помощника собрать информацию о Жовнере и изложить свое или какого-нибудь авторитетного специалиста, профессора, преподавателя вуза мнение о журнале.
Эти две странички, на одной – мнение о журнале, на другой – справка о Жовнере – лежали перед ней на столе, она так и не успела прочесть их перед приемом и теперь, раздражаясь от стоящей в кабинете духоты, от того, что этот день выслушивания жалоб только начинается, от необходимости тратить время на мелочи в ущерб делам действительно неотложным и важным (хотела объехать детские лагеря отдыха, проверить подчиненных, сигналы нехорошие поступили, да и губернатор просил), взглянув на стоящего напротив с перекинутым через руку пиджаком (тоже, видно, вспотел) просителя, предложила ему сесть и побежала глазами по справке, не особенно вдумываясь, и вдруг остановилась, перечитала…
Оказывается товарищ-господин Жовнер из демократов… И друг-соратник господина Красавина… Страну помогал разваливать…
Опять вернулась к началу и теперь уже стала читать более внимательно…
И в советское время был этот господин уже неблагонадежным, находился под присмотром КГБ (все-таки отменный у нее помощник, раскопал), значит, враг давний и сознательный… А теперь он вот журнал издает, будет детей учить…
Мнение о журнале, изложенное на другом листке, в целом было неплохим, все в произведениях выдержано в традициях советской литературы, авторы известные в крае, но в большом историческом романе, который был главной публикацией первых номеров, «есть несколько страниц описания довольно откровенных любовных, эротических сцен». Помощник выводов никаких не делал, но строчку эту на всякий случай подчеркнул красным карандашом.
Она поймала себя на том, как поднимается раздражение.
Только на днях у них был серьезный разговор с дочерью, которая, оказывается, уже несколько месяцев живет с каким-то мужчиной, а она ни сном ни духом… А дочь, видите ли, считает, что ее мать отстала от жизни и со своими совковыми взглядами мешает ее счастью.
– Ну так выходи замуж! – не выдержала она. – Кто тебе мешает? Я? Отец?.. Приводи его… живите… Но только после загса…
– А я, может, еще и не выйду за него… Не хочу потом, как ты…
И в очередной раз Галина Федоровна пожалела, что однажды, в минуту откровения, призналась дочери, что вышла за ее отца, родила ребенка и прожила немало лет, прежде чем они расстались, не любя.
И как от этого ей было муторно, как не спешила домой (может, от-того так много в свое время и сделала, и замечена поэтому была вышестоящими товарищами), как трудно женщине, когда не к кому прильнуть, некому показать свою женскую слабость…
Подалась к помощнику, хотела взглянуть на эти страницы с эротикой сама и передумала, уж слишком уверенный стоял перед ней господин Жовнер, словно и не просить вовсе пришел, а, наоборот, облагодетельствовать. Подавила в себе эмоции, как привыкла делать это за многие годы партийной и административной работы, но не смогла настроиться на ровный тон, задать пару необязательных вопросов, а понесла-покатила, уже не сдерживаясь, воздавая и новому строю, и демократам, и, как значилось в справке, этому вполне успешному бизнесмену, который вписался в капитализм.
– А за что мы должны поддерживать ваш журнал? О чем вы в нем пишете?… – Она потрясла листочком, словно проситель знал его содержание так же, как она. – Чему хорошему он может научить, если вы печатаете порнографию!
– Какую порнографию? – растерянно произнес Жовнер, и надменное, как ей казалось, выражение его лица начало меняться на непонимающее. – Там хорошая проза, стихи…
– И мерзкие сцены в романе этого… – она бросила взгляд на помощника.
– Котенко, – подсказал тот.
– Вот именно, Котенко… Кстати, а откуда этот автор? Надо бы с ним разобраться… – отдала распоряжение помощнику.
– С ним уже не разберетесь, он умер, – глухо произнес Жовнер. – И жил он в нашем городе, вы должны были его знать. А это его последнее не опубликованное произведение…
– Хорошо, его нет, – снизила она тон, тщетно пытаясь вспомнить писателя с такой фамилией. Но на ум приходили две-три фамилии писателей, с которыми она решала текущие вопросы, – но вы редактор?.. Почему поставили?.. Может, взялись не за свое дело?
Эта фраза вдруг напомнила Жовнеру давний допрос в стенах КГБ, широкого низкорослого краснолицего начальника отдела и его безапелляционный приговор: «В идеологическом органе вам делать нечего!». Он усмехнулся и словно освободился от ощущения просителя, с которой входил в этот кабинет. Уже начиная понимать бессмысленность этой аудиенции, попытался возразить.
– Да, в романе есть сцены языческого ритуала. Это исторический роман, и автор описал его, основываясь на подлинных документах… И там нет никакой порнографии. Поэтому я не стал ничего убирать.
– Вы – редактор и должны были отредактировать, как положено… На что вы надеялись, когда шли сюда?.. Нет, мы вам, конечно же, помогать не станем… И даже запретим в школах читать ваш журнал…
– Спасибо, – сказал Жовнер и направился к двери.
– А я еще посмотрю, будет ли вообще ваш журнал выходить в нашем крае… – бросила вслед ему Духина, с трудом сдержав себя, чтобы не произнести что-нибудь более пугающее… Этот диссидент, отщепенец, этот разрушитель ее страны уходил так же надменно, как в свое время уходил муж, хотя она ждала, была уверена, что он одумается, остановится на пороге, попросит прощения, и она в этом случае смягчит свое наказание....
И этому дураку ведь уже готова была помочь… Надо будет все-таки посмотреть, что там на этих страницах…
– Кто у нас следующий? – повернулась к помощнику, стараясь поскорее выбросить из головы только что происшедшее…
Период надежд
Теперь у Жовнера отпали все сомнения: отношения с любой властью у него не сложатся.
Видимо, так предначертано.
Даже когда во власти был Красавин, никакого навара ни в чем Жовнер не получил, хотя за пять лет друзья и знакомые прочих больших столоначальников умудрились быстро и непонятно на чем разбогатеть.
При коммунистах не был обласкан властью предержащей, и в новой России, которую сам приближал, а теперь прилагал все усилия, чтобы она быстрее набирала экономическую мощь, на помощь тех, кто «наверху», можно было не рассчитывать. Возле бюджетного пирога уже выстроился заградительный пояс (да не в один, в несколько рядов), из тех, кто тому, кто теперь находился на карьерной лестнице выше, когда-то помог поднести чемодан, подмел ковровую дорожку, придержал дверь…
А те, кто уже из новеньких, скороспелых, мигом усвоивших, что такое власть денег и их дефицит в карманах чиновников, делали предложения без обиняков и намеков, прямым текстом: ты – мне, я – тебе…
Правда, был короткий период в его жизни, когда, казалось, наступило взаимопонимание, его помыслы не шли вразрез с помыслами вождей. Тогда его выслушивали в больших кабинетах и оказывали содействие. Но это было в столичных кабинетах – провинция, увы, его никогда не любила.
Один из его столичных знакомых, Леша Сафронов, сын родителей-журналистов, когда-то, до его рождения, перебравшихся в столицу (отец – из забайкальских степей, а мать – из белорусского Полесья), работающий, несмотря на молодость, в солидном журнале, в начале восьмидесятых убеждал его перебраться в Москву.
– Ты загубишь свой талант, он в провинции никому не нужен, пойми это… На каждом болоте свои обитатели, а у вас там – в основном лягушки и пиявки. У них все устремления присосаться да поквакать…
– А в столице?
– В столице?.. У нас в основном цапли… Длинноногие и далеко видящие.
– И питающиеся пиявками и лягушками…
– Ну, может быть и так… Но главное, что они видят дальше.
– А в провинции цапель нет?..
– Не лови меня на слове, есть и в провинции, только они там… как белые вороны… Понимаешь, у цапель кругозор другой, и лягушки их никогда не поймут… А ты именно такая цапля в вашем тихом болоте.
– Даже не знаю, благодарить или обижаться.
– Это комплимент…
– Ладно, пусть так, только я вот лягушками не питаюсь.