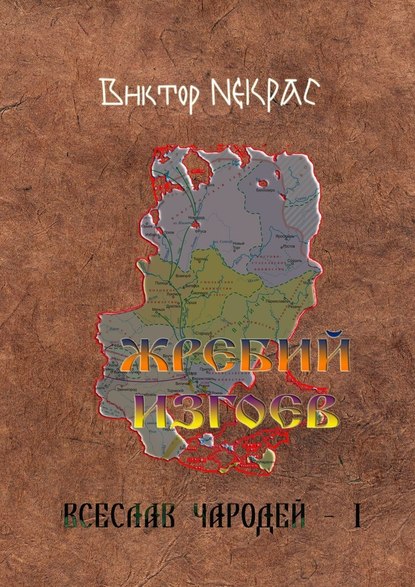По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жребий изгоев. Всеслав Чародей – 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что зачем, княже? – не понял гридень.
– Жить-то мне зачем? – Судислав усмехнулся, холодно и жёстко, и в этот миг Колюта снова признал в немощном старце своего господина, волевого и смелого князя. – В келье гнить? А не в келье – так снова в порубе?
Обратно в поруб князь не хотел.
Гридень молча глядел на князя и взгляд его не особенно понравился бы кому-то постороннему. Особенно если бы этим сторонним был кто-то из Ярославичей – глаза Колюты не обещали им ничего доброго.
– Нет, – тихо засмеялся князь, поняв взгляд гридня. – Опять воевать… это тоже уже не для меня. Теперь – не для меня.
– Ты – старший в княжьем племени, – твёрдо возразил Колюта. – Ты – сын Ольга Святославича! Великий стол должен быть твоим!
– Это так, Колюта, – тихо ответил князь. – Только не смогу я. Поздно. Мне поздно. Я уже в колоду гляжу, а детей у меня нет – для кого я за великий стол бороться буду? Ради самолюбия своего?!
– Отчего – ради самолюбия?! – холодно ответил гридень. – Ради правды! Ради порядка мирового! Ради богов русских!
Князь Судислав молчал – на челюсти вспухли желваки, взгляд заострился. Колюте на миг показалось – сейчас сбросит Судислав Ольгович рядно и суконное одеяло, встанет и кликнет клич витязям.
Только до Белоозера было далеко, а желваки на челюсти князя скоро разгладились.
Нет.
Не боец был больше князь Судислав, горько согласился неведомо с кем Колюта. Сами собой сжались кулаки. Хотелось мстить за загубленную жизнь господина – да и свою тоже.
– Так что пришла пора, Колюта, – почти неслышно шевельнулись губы князя. – Пора доставать заветную шкатулку.
– Вспомнил, – хмыкнул Колюта отстранённо, что-то ища в поясной калите. – Той шкатулки уж лет двадцать как нету – сторожа плесковская выманила, чтобы тебе постель тёплую в поруб передать.
Шкатулка была дорогая, резьбы доброго белозёрского мастера, из томлёной корельской берёзы, но князь не её сейчас пожалел.
Тревожило другое.
– А… – князь чуть испуганно приподнялся, и замолк, увидев в руках гридня небольшой рожок с плотно притёртой пробкой.
– Обижаешь, княже Судислав, – укорил негромко Колюта. – Неуж ты думаешь, я им шкатулку так и отдал, вместе с…
Гридень не договорил.
Достал из поставца две каповых чаши, взялся за пробку. Встретился взглядами с князем, замер на миг.
Князь покачал головой.
– Сначала – бересту и писало.
Колюта, не удивляясь, положил на стол чистый выглаженный лист бересты, сел и приготовился писать. Не особенно навычный до сих пор в грамоте гридень многому выучился в обители.
Князь говорил медленно, хотя мысли бежали быстро, удивительно ловко складываясь в слова – то, о чём он долго думал сначала в заточении порубном, а после – в монастырском. Медленно – чтобы Колюта успел за течением княжьей мысли.
Князь Судислав отвергался от христианства и пострига. Призывая в видоки богов Перуна и Велеса, он передавал свои права на великое княжение, на каменный престол[6 - Каменный престол – трон киевских великих князей. Обряд интронизации киевских великих князей почти полностью совпадал с таким же обрядом у правителей Чехии и Карантании, при которых князя усаживали при интронизации на каменный трон (жертвенный камень).] киевский полоцкому князю Всеславу Брячиславичу.
Договорил.
Смолк, переводя дыхание.
Вновь встретился взглядами с верным гриднем.
Кивнул.
– Так надо, Колюта.
– Монахи спрячут это бересто, – качнул Колюта головой. – Или сожгут.
– Верно, – подтвердил Судислав с удовольствием. – Поэтому убери со стола одну чару – оставь только для меня. А ты сам – поедешь к Всеславу в Полоцк. Немедля. Сейчас.
– Но… – попытался было возразить гридень, но смолк, остановленный взглядом князя.
– Схоронить меня и без тебя схоронят, – твёрдо ответил князь на невысказанные возражения Колюты. – Монахи всё одно не дадут тело сжечь да страву или тризну провести.
Судислав говорил спокойно, без дрожи в голосе, и гридень склонил голову, соглашаясь.
Он повиновался.
Мутная струйка канула в чару, гридень сунул опустелый рожок обратно в калиту и подал чару князю. Горьковатый запах пощекотал ноздри, князь сглотнул терпкое горькое питьё.
Теперь надо было договорить то, что ещё не успел сказать.
– Поедешь в Полоцк, отдашь Всеславу грамоту, – бесцветные губы Судислава шевелились, исторгая едва слышный шёпот. – Сам останешься у него на службе… если заможешь. С тем и всё… если в Киеве ещё когда будешь, приди на могилу, помяни, как положено…
В глазах Судислава плыл туман, лицо Колюты двоилось, троилось и расплывалось, за ним ясно протаивало в тумане окно, в которое уже смотрели из неведомого мира, из Нави лица братьев – Святополка, Борислава, Изяслава…
Они ждали.
А за их спинами уже распахивались золотые ворота вырия – Дажьбог-Солнце тоже ждал своего незадачливого и неудачливого потомка.
– Иду… – прошептал неслышно князь и смежил глаза.
Колюта ещё несколько мгновений непонятно смотрел на ставшее вдруг невероятно худым и спокойным лицо господина, потом земно поклонился, подхватил со стола драгоценное бересто и выскочил за дверь.
4. Червонная Русь. Волынь. Река Стырь.
Лето 1063 года, изок
Огнищанин Чапура народу повидал на своём веку немало. Бывали в его доме и гуртовщики-скотогоны, и калики, и вои… и даже тати.
В обычное время усадьба пустовала – изредка заглянет какой-нибудь путник, раз в седмицу-то – и то благо. А к исходу лета, как нагуляет скот мясо на привольных пастбищах, так тут Чапуре и прибыль, на которую после можно весь год прожить – кто бы куда скот ни гнал на Червонной Руси, Русской земле да Волыни, так мало кто мимо Чапуриного огнища пройдёт. Переночуют гуртовщики, поснидают… да глядишь, барана или телёнка и оставят.
Сейчас, в самом начале лета, время было глухое. Свободное от работ – огнище спалено, распахано, рожь посеяна, до сенокоса ещё далеко.
Чапуре было скучно.