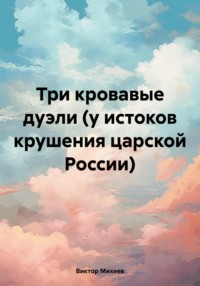Три ноты на самом краешке Земли
– А у тебя хлопцы бессмертные? – спросил командир корабля то ли с иронией, то ли с потаенной завистью.
Капитан ответил не сразу, гася иронию грустной улыбкой:
– В человеке есть нечто, что теряется незаметно, и вот уже – сухой листок, подвержен любому случаю и несчастью. Я так ее понял: не хлебом единым… Кто-то думает о хобби, а мы о поклоне и близости небу… Чтоб о двух ногах, о двух крылах!
Степаныч слушал подавшись весь вперед, и вдруг решительно заявил:
– Да, тема острая сейчас… Как нам Иванушек и Емелюшек сохранить, – и вдруг обратился прямо к командиру. – Вот вы, Василь Андреич, не знаете, кого ждете на борт как главного ракетчика…
– Только без предисловия – скоро пробные обороты, – с улыбкой поторопил НШ. – О ком ты так громко?
– Я мигом, Александр Иванович, это совсем короткая, но удивительная история, – и стармор удобнее устроился на диване, задумался и, возможно, не успел бы рассказать. Но в это самое время зазвонил телефон, НШ поднял трубку и передал ее командиру.
– Ну что ж, они исправляются. Отбой приготовления. Готовьте швартовые команды! – и командир положил трубку с очень довольным видом. – Пойдем под буксирами, подойдут минут через двадцать. Ветер очень крепкий, но назавтра – улучшение погоды!
НШ тоже с удовлетворением хмыкнул:
– Опомнились. Но рапорт готовь, удар был сильный, мало ли как аукнется, – и повернулся к Степанычу с интересом: – И что же? Какое еще диво от тебя?
III– Было то ранней весной… Пост радиолокационного наблюдения на диком мысе, отдаленный, снабжение только морем, а лету от Сахалина полчаса. Командир поста старший мичман Егоров служил на острове четыре года, с ним жена, двое детей маленьких. Ну и подразделение – два десятка матросов, мичманы. К весне с продуктами на посту плохонько. А тут погода испортилась надолго… Не обидно, если бы то были Курилы, а тут цивилизация вроде недалеко: в ясную ночь над горизонтом отблески огней над Сахалином. Как-то вдруг – ближе к обеду – шум двигателя! Выбегает во двор: море – пусто, а вдоль береговой полосы выплывает этакая стрекоза, да низко так – тумана боится, сама вся – небесно-голубая. Звезды красные мой мичман рассмотрел, и они его успокоили – свои вроде. Но откуда?
И садится прямо перед домом командира поста, а казарма-то и сам пост – были в небольшом отдалении. Открывается дверь и выпрыгивает незнакомый моряк, каплей, подбегает, обнимает и толкает к вертолету. А там уже показался второй – мичман, его подчиненный-отпускник! и хлопочет с мешками. Тут командир поста опомнился, бросился помогать, а от казармы уже бежали матросы… Напоследок тот каплей, отдаленно похожий на монгола, лично вынес два ящика, нетяжелых, и отнес к порогу домика, где стояла жена командира поста с двумя малышами. Вертолет винты не выключал, дождался моряка, поднялся, и как бы сразу упал к морю по обрыву, пошел над волнами низко… Как сказал мой Егоров, сердце у него защемило: рисковала валькирия…
В уютном салоне флагмана висела тишина: здесь даже представить то было тяжело, ждали продолжения. Но сначала был куцый и суровый эпилог.
– Разбирались в базе, разбирались на флоте… Пытались замять, победителей, мол, не судят: вернулись они благополучно и отсутствовали недолго. Но командир вертолетчиков оказался с гонором. Летчика выгнали со службы, а морячка нашего упекли уже дальше Сахалина… И вот надо же! Где он объявился!
– Степаныч, не томи, – командир корабля смотрел настороженно. – Это был Шевелев, что ли?
– Да! Всю предысторию выложил наш отпускник-мичман, как на духу. Познакомились в ресторане, дня за два до события. Выпили, разговорились… Мичман и пожаловался на «жисть» на острове. «Двое детей на таком посту?» – удивился тогда каплей. И решили они к празднику сюрприз преподнести. Летчика пытались выгородить, мол, заставили полететь обманом, шантажом… Каратист капей, сильный… Но потом установили, что все у них было спланировано. В тот день погода немного прояснилась, туман вынесло из залива, а корабли давно ждали совместного траления с вертолетами… И на полчаса вертолет якобы плутанул от маршрута… Одно долго не могли уяснить – откуда такая отчаянность, возле берега туман же? мужество-то не решались сказать. Немотивированное, вроде. Пьяны были? Но летчика проверяли и до, и после – чист. Моряки – трезвенники. Вскрыли черный ящик, прокрутили пленку – а там почти все тридцать минут полетного времени одно и то же: горланят разудалую песенку «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой, крутится-вертится хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть…». И голоса… вдохновенные! Мелодию выводили со вкусом, с вариациями… Я слышал эту пленку, комиссии ее прокручивали. Решили, если не пьяные, то дурачки точно.
– Дурачки-то дурачки, а все-таки не в Японию же полетали – хотя до нее не дальше, а? – и в голосе НШ все услышали непривычный для него азарт.
– А что было в ящиках, Степаныч? – вежливо спросил Мамонтов.
– Каких? А-а… Мороженное! С него все и началось. Это потом мичман додумался подкупить картошки, капусты, лука – а то бы вертолет погнали с двумя ящиками мороженного – для детишек.
В каюте опять зависла тишина, в которой слышны были отдаленные шумы мощных двигателей – к кораблю направлялись буксиры.
– Вот вам «не хлебом единым»… Затаскали особисты, граница-то вправду рядом. А один штабист, спесивый, позволил себе издевательский тон… Какими, мол, идиотами надо быть и прочее. А тот ему как ствол ко лбу: «А у нас дети с грудного возраста служат? Тогда выдавайте им детское довольствие – и мороженное по праздникам!» Адмирал, конечно, в начальственный крик, в ответ уставился злыми глазами, губами шевелит, будто плюнуть хочет… Каратист, смелый. Но как он выплыл? Кто его вытащил? Хотя уже тогда его знали как очень хорошего специалиста…
– Командир таких коллекционирует, – едко заметил НШ. – Это же он, ракетчик?
– Да. Шевелев Петр Кимович, прошу любить и жаловать…
– Какие разные в экипаже люди подбираются. Искры полетят при соприкосновении!
По телевизору бежали картинки очередного выпуска новостей. Рев самолетов, бодрый голос диктора, иностранный говор ворвались в каюту. На несколько мгновений их заглушила сирена с подошедшего буксира, в иллюминаторах заиграли отблески мощных прожекторов. Командир встал, и, попросив разрешения, направился к выходу. НШ заворожено смотрел на экран.
– Что ты об этом думаешь, капитан? – спросил он, не отрывая взгляда от экрана.
Капитан Озерцов не ожидал вопроса, наблюдая с детским любопытством демонстрацию невиданной силы и ответил коротко:
– Мне Иванушка-дурачок ближе. За ним хоть что-то есть, кроме физической дури…
* * *Стармор и Мамонтов вышли вместе.
– Сегодня что-то все об одном говорят, – посетовал особист, пристраиваясь за капразом. Но тот, не приостанавливаясь, направлялся в свою каюту.
– Так ведь какой день сегодня, молодой человек? Канун Рождества Христова. Поневоле задумаешься… Видел, как заря погорела? Страсти небывалые… Как там в кубриках?
– Война. Может, в походе выдует блажь.
– Охо-хо… Молодым и пень – тень, старикам – напоминание…
Они разминулись у трапа. Капраз двинулся в нос, а контрразведчик в корму, в свою маленькую, но уютную норку, великолепно оборудованную для отдыха и для работы.
6. Малый «собор»
IБуксиры, словно перекачанные крутые вышибалы, взяли корабль под бока и вывели чужака к острову и дальше – почти на внешний рейд. Там и бросили на растерзание сатанеющему ветру и его верным слугам – волнам, тяжелым, как многотонные кувалды.
Частые удары о борт, невозможные в бухте, первое, что потревожило сон Лейтенанта. Потом скрежет якорь-цепи… А потом уже команда «Произвести малую приборку», едва слышная в динамике, подняла его, так как была верным предвестником близкого ужина.
Едва он умылся, как в дверь ввалился, опередив приборщика, старший лейтенант Шульцев, корабельный балагур, пухлощекий с круглыми глазами на выкате.
– Коль, выручай! Приболел – подмени на «собаку»… Температура 38!
Сначала Лейтенант подумал, что его разыгрывают. Он схватил за плечо борзого и подтолкнул к зеркалу:
– Смотри! Ты больной? Тогда я – кто?
И зеркало отразило контраст двух лиц – краснощекого и исхудало-бледного. И все же последний успел почувствовать, что Шульцев не лукавит, температура у него была.
– Кнехтов не хотят ставить, погода свежая… Не идти же мне к командиру БЧ-7…
– Ладно. Но! – Лейтенант снова взял за плечо нежданного просителя. – У тебя остался один зачет…
– Я понял. Две недели… Даешь?
– Лично мне для начала! А на сборе будешь?
– Хотелось бы, а потом пойду лечиться, и завтра буду как огурчик.
Направляясь в кают-компанию, Лейтенант на несколько минут вышел на верхнюю палубу. Дальневосточная ночь с ее простором во все стороны и особой пронзительностью пространства вступала в свои права. Ее холодное дыхание не понравилось ему, и он быстро ушел в теплый коридор.
…От супа Лейтенант отказался, съел каши с кусочками мяса и обильной подливой, выпил нечто напоминавшее компот, но изжевал четыре куска великолепного белого хлеба – корабельной выпечки. И успел сделать вывод, что настроение у офицеров кислое. И только командир БЧ-2, неподвижный как утес Михалыч, хранил невозмутимость и с важностью необыкновенной показал Лейтенанту ладонь с растопыренными пальцами, потом быстро сжал их в кулак – знак «Малого Собора».
Тупо посмотрев несколько минут на экран большого телевизора, излучавшего умело смонтированное веселье, Лейтенант понял, что с удовольствием думает о предстоящей встрече «соборян» у Михалыча. Душа ищет искренности… Лейтенант не мог себе врать – ему хотелось снова убедиться, что искренность отношений возможна и в большом коллективе. Влекла, как в первый раз, уверенность, что и другим нужен дуэт прямоты с честностью. Уже года два висела в каюте у Михалыча на видном месте чудная картина моря и гор, сияющих льдом и снегом, с крупной надписью: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем…». Она, как камертон, не давала уклоняться… «Путешествие» в очищенную от бредней и вранья реальность соединяло людей крепче клятвы, – некой надеждой на самореализацию.
Возможно, Мамонтов предполагал за этими "сборами-соборами» умелую организаторскую руку… Лейтенант его не раз осаживал: самый умелый организатор – Христос, открывший в человеке очень уязвимую душу, но которая может быть бессмертной.
Нет, «соборы» сложились стихийно… Конечно, они не были религиозными собраниями – церковные догматы были мертвы для моряков как миражи былых надежд. Но! Слово Божье – теория прямого действия. И религия – великое учение социального бытия, в нем трудно отделить теорию от практики. И как оно разминулось с социализмом, имеющим те же идеалы, по недомыслию или злому умыслу – так и осталось загадкой. Отсюда настороженность моряков к золоту куполов и блеску социальных теорий.
В каюте Михалыча реальностью становилось то, что в «реальной» жизни имело мало места – чистый интерес к сущему, которому есть дело до твоего бытия. Аксиома – служебные дрязги, карьерные игры хоронят понятие долга. Эфемерные отражения реальнее реальности… Состязания тщеславий, козни самолюбий, оправдания слабостей, путем словоблудия – оставляли у комингса как грязную обувь…
Командир БЧ-2, приютивший «сборы» и ставший их «распорядителем», не без тонкости, которой от него не ожидали, подметил: «Мы взяли высокую ноту… В буднях сглатываем, а тут держать! Рядом горы, море – на их фоне нельзя ни мычать, ни рычать, ни объяснять любовью соловья к розе и лету».
Общество офицеров (бывали тут и мичмана) сразу делилось, как правило, на две части: одни устраивались поближе к маленькому телевизору, цветному, в дальнем уголке каюты, другие теснились поближе к столу хозяина, где играли в шахматы, шашки или пили кофе. Все переборки каюты были задрапированы светло-коричневой тканью, и такого же цвета были занавески на иллюминаторах, накидки на креслах и даже баночках. Здесь редко повышали голос – подстраивались к покою и суровому порядку, царившему в каюте.
Строг был хозяин. Капитан 3 ранга Юрий Михайлович Бакин выглядел старше своих лет. Был когда-то добродушным и веселым человеком, но ухабы жизни и службы сделали малообщительным. Внешний порядок возвел в ранг святости, ходил по кораблю непременно с цепочкой, на которой были нанизаны ключи и миниатюрная женская фигурка с восхитительно выпуклыми формами. Горе тому, кто попадался Михалычу в неопрятном виде или в том месте, где его не должно было быть. Цепочка ложилась смачно во всю спину, а чаще пониже спины – и не дай бог провинившийся издавал при этом хоть какой-нибудь звук. Об этой цепочке знал весь экипаж, и она, конечно, больше веселила моряков, чем пугала, и они звали ее «Поцелуй Дианы». Прикосновения маленькой дивы на цепи удостаивались чаще «годки», которых Михалыч «пас» с особым тщанием. Но и они не держали обиды на КБЧ-2, потому что в свое время, когда они были молодыми матросами, он помогал им выстоять морально и физически под «гнетом бывалых».
Добавляло ему веса в глазах моряков и то, что был примерным семьянином – три сына! Правда, видели отца немногим чаще Деда Мороза. Одно время Михалыч стал втихую «прикладываться»… Но устоял, хотя совсем замкнулся в себе. Тогда он, как и Лейтенант, разговаривал только по служебным делам, в случае крайней необходимости. Малословие осталось, хотя на «соборах» иногда преображался и был душой общества. Но кто знает, какие были тому причины – может быть, накануне получил письмо из дому?.. Сегодня Бакин был оживлен и энергичен, видимо, и «собор» полагал вехой в честь Рождества.
II– Какие изделия загрузили! – цокал языком Михалыч, когда Лейтенант вошел в каюту, где уже было около десятка человек. Сам хозяин расположился играть в шахматы с начальником химической службы капитаном 3 ранга Орефевым прямо на койке.
В ответ Лейтенант лишь плечами пожал: изделие, мол, и изделие. Но Михалыч продолжал восхищенно:
– Все только и причитают – «Не ЯБП!», «Не ЯБП!», «Какой удар по нашим возможностям»… Ерунда! Нынешняя ракета и без ЯБП эффективна! Так что, Коля, носа не вешай – твои пушки вряд ли пригодятся после таких красавиц.
Лейтенант присел в другой угол стола, хотя шахматы любил, но… издали. На баночке у койки примостился капитан-лейтенант Маренов, командир БЧ-3, взрывного характера молодой человек, рыжеватый, со взглядом исподлобья. Он и был чемпионом экипажа, как и лучшим математиком. Но сегодня припоздал, и Орефьев первым вызвал на дуэль Бакина. Начхим чувствовал себя, как дома – с ногами забрался на койку и расставлял фигуры, любуясь ими, как войском перед сражением. Начитанность Михалыча шла от общения с начхимом.
Вячеслав Евсеевич Орефьев, весьма приметная личность в экипаже – невозмутимый аскет, превративший свою каюту в нечто среднее между библиотекой и мини-спортзалом. Суждения его всегда были сухи и точны, как справки из энциклопедического словаря. О силе воли ходили легенды. Например, о привычке проворачивать башню главного калибра! В дождь, метель, мороз – он подпирал ее плечом и давил, как домкрат, дыша мерно и четко… При этом всегда одет легко. И кто видел его таким: коротко стриженую голову, жилистую шею, вислый нос, сдвинутые темные брови и всю скрюченную в пружину фигуру – все было сдавлено в одном движении, тот не усомнится, что видел саму суть человека. Когда начхима назначили общественным дознавателем экипажа, годковщина убавилась, а избиений не стало. «Он годкам рога скрутил вместе с башнями!» – шутили в экипаже. А Лейтенант, когда его пушки «мазали» на стрельбах, что бывало редко, выговаривал Орефьеву: «Опять ты башне рога скрутил!»
…Михалыч явно не хотел мириться с блеклым настроением Лейтенанта и, видимо, отвечая на реплики за ужином, с насмешкой сказал:
– Вижу, поцапался крепко со старпомом… Одно слово – и мир для тебя погас!
– «Поцапались»… Слова – кровь души! Кто это сказал? – без тени улыбки громко спросил Лейтенант.
В группе офицеров у телевизора откликнулись сразу:
– Лейтенант, конечно! Собор номер три от… Правда, еще не успели запротоколировать!
Грянул смех, смеялся и Михалыч. А Лейтенант строго поднял палец, и серьезно отчитал Бакина:
– Поцапались… Я открыл феномен параллельной реальности. Мы все – явление его воли, не больше. Ты морячишь, кораблем занят, мир сберегаешь – а для него ты, извини, кусок дерьма… И при случае он тебя выбросит. Поход все спишет, сам понимаешь… Мы в походе? Нет! Он в походе, а мы в проходе.
И он рассказал о стычке на ходовом, о негласном прозвище Лацкого – «америкашка!
Михалыч морщился, пыхтел, но уже не улыбался, и другие притихли, а Маренов не согласился:
– Зачем смотреть так далеко, Николай Владимирович!
– Новости! – объявил кто-то от телевизора. Командир ракетной батареи Ребров, сидевший рядом с Шульцевым, прогремел своим низким голосом:
– Сейчас вам покажут, как и зачем ходят в походы, пока вы в слова играетесь.
Ребров приметная личность в экипаже. Внешне схож с бардом Высоцким: прямые волосы, которые не любил стричь коротко, выпуклый лоб и удлиненное лицо, небольшой рост, а главное – низкий тембр голоса, правда, без хрипотцы. Бескомпромиссный характером человек. Одним тоном разговаривал и с матросами, и с адмиралами. Природу этой смелости знали: отец Игоря Реброва – немалый чин в тыловых органах. По этой причине само нахождение его в экипаже, где хлебал негустые щи наравне со всеми, расценивали как подвиг. Ребров ненавидел все, что было связано с упоминанием американцев. Он их называл тепличными болванчиками, выращенными на крови и поте многих наций.
И теперь КРБ смотрел на экран, играя желваками, взглядом киллера, который еще не получил команды «фас». Показывали все те же грозные картинки военных приготовлений, но многим уже не верилось, что эта армада будет пущена в дело.
– Какими глазами смотрит на зубатую пасть старпом, если он… феномен… – процедил сквозь зубы Ребров.
Направление разговора не понравилось командиру БЧ-2. У него и у начхима сложились рабочие отношения со старпомом в повседневной службе. Орефьев как общественный дознаватель находил полное взаимопонимание, они дружно распутывали сложные ситуации внутрикорабельной жизни. Единственный, кого старпом называл по имени – «Слава». Поэтому ответная тирада Михалыча оказалась довольно резкой:
– Слышали мы анекдот, Игорь Иванович, про заокеанского беса! А признаки уродства на нашем корабле-красавце?.. Сегодня Розов не без нашей подсказки чистил о них начальников. Это тот «бес» нам его построил? Это «бес» так тонко рассчитывает, что за ходку в ремонт в карман штабных попадает кусок на несколько автомобилей? И выше дают – согласно рангам, за счет бесплатной рабочей силы! Старпом, он… тоже чей-то подчиненный. Почему вдруг – «феномен»?
Ропот скользнул по каюте. Но Михалыч поднял руку:
– Не все сразу. Чтоб долго не трепаться, пусть корабельный ключник укажет нам дорогу… Что в нем феноменального, Евсеич? Ты бы тоже не отказался от ремонтной доли, а? Обычное дело…
Вопрос застал начхима врасплох, но смутить его трудно.
– У меня нет карманов, – вкрадчиво пояснил он. – Назначь тебя старпомом, наряжал бы кнехты в матросскую робу, а моряков в рабочую?.. Обычное проростает рабством.
– Так-так… – удрученно покачал головой командир БЧ-2. – Я знаю точно: учить – особый дар. Командовать, стрелять – другое. В кадрах…
– В кадрах озабочены третьим – там пришивают карманы. В любом вопросе есть два главных вектора – общее и частное. Юнцы на борту – наша общая боль и забота… А мы уперлись в частное, как потаенную лазейку… Лейтенант учуял трещины в фундаменте. Ветерок-то нехороший, не простыть бы.
– Понятно, хотя говоришь ты замысловато, – раздраженно бросил Михалыч и обернулся почему-то к Лейтенанту. – Да! Неспособен я делать заведомую подлость в рамках своих обязанностей, забыв об общем смысле. Потому и не старпом. И не буду. Удовлетворен?
– Не пустят тебя, и вопрос не к тебе… – успокоил Евсеич и тут же «огорчил». – Есть универсальный определитель для всех времен и народов: «свой – чужой» – Знак Иуды. Повязать человека с мамоной навсегда – вот исток пара-реальности, так смутившей Лейтенанта на ходовом мостике. Поэтому у пиндосов наверху всегда гадость, они все «Знаком» увенчаны. Возможно, и у нас появилась лига феноменов… Кстати, как держался Розов? Ребров-то, знаю, молодец…
– Держался хорошо, да их-то не проймешь… – Михалыч склонился над доской и, сделав ход, попытался подытожить. – Выходит, неудачная швартовка и удар о пирс пробудили Лейтенанта, и он поместил нас в нечистое место к… Но нечистых на руку всегда было достаточно, жили же…
Евсеич, не отрывая носа от шахматной доски, проскрипел: «История не подтверждает такой уживчивости. Иначе нас было бы полмиллиарда светлоголовых».
Маренов ворвался в диалог «мудрецов»:
– На корабле иметь таких опасно… В народе практическая хватка слывет иудиной жилой, и в церквах им всепрощение – принеси куш и промышляй дальше! Теперь и палубу им?
– Всегда так было, – согласился Ребров. – Купцы на храмы отстегивали, а народ звал их мироедами… Конечно, и среди нас есть сшитые по разным меркам.
– Так, – Михалыч сделал удачный ход и переглянулся с Лейтенантом, который видел, чей на доске перевес, что Евсеич в затруднении. – Если Лацкой крепко сшит, то почему он феномен-америкашка, Коля? Не пойму.
– Он в метре от руля, он над твоей головой… Не чувствуешь – твоя беда, и весовая категория тебе не поможет, – Лейтенант отвечал тихо, как отпевал.
IIIЖелающих выступить поубавилось. Неожиданно объявился молчун – командир радиотехнического дивизиона капитан-лейтенант Романов. Человек из сухарей-технарей, которые головы не поднимают от аппаратуры, и разговоры у них все о ней. Когда его укусил «зеленый змий», тому же стармору Ляшенко пришлось немало воевать, чтобы оставить хорошего специалиста флоту. Битый профи, за которого не жалко и десять небитых.
Бросив телевизор, Романов подсел к столу и заговорил, улыбаясь в черные, как смоль, усы. Смугловатый, он мог сойти за цыгана, с прядями седины на когда-то черной голове.
– Конечно, они поднимутся выше нас… Обязательно. Они ничего не боятся. Разбойник даже взят в рай, и в церкви козыряют этим, прощая даже смертные грехи. На деле все грехи уравняли, ребята… Время строить свою реальность у тараканов и крыс.
– Так, что ли, Слава? – недоверчиво покосился Михалыч на начхима, не поднимавшего головы от доски, но, конечно, слышавшего все.
– Хрен его знает, товарищ военный… Христос учил не на русском, а переписчиков и переводчиков было много. Может быть, вовсе не разбойника подвесили, не душегуба… А мятежника за бедных и мытарей – как и сам Христос. Только Он душой озаботился, а тот телом человека, угнетаемого и забитого. В угоду кесарю в народе не любили смутьянов, казнили регулярно. Ответил, но по грехам ли? Небу виднее, кто он был.
Романов обратился прямо к Лейтенанту, сидящему в уголке у стола под иллюминатором:
– Религиозные люди, я уважаю их, и те не могут удержаться на своем фундаменте, если прижмут обстоятельства. Нет опыта одоления соблазна. У бабки в селе огородили по улице все колодцы. Что было общим сотни лет, стало частным. Упрешься лбом в забор, а за ним как бы богомольные люди. Становимся страной заборов. Феномен ли наш Лацкой? Болотная мразь, но если наверху сцеплен… «перспективный»! Вылезет у руля, этакая фига нам всем. Флагманского связиста Третьяка, помнишь? Он уходит домой по нижней планке выслуги лет. Для кого места чистят?
Лейтенант не успел ответить, Бакин повернулся к нему и тоже добавил перца, с большим сочувствием:
– Видишь, Коля, трещина до преисподней получается, а ты не архимандрит… И «запад» наш молчит, это тревожно вдвойне.
Михалыч кивнул в сторону Шульцева, сидящего у телевизора. Вечный его оппонент только усмехнулся, не открывая глаз от экрана.
– Люди, способные передать опыт – золотой фонд нации. Я видел инспектирование Третьяком дальних постов… – и Романов неожиданно рассмеялся, так заливисто и заразительно, что всем стало весело от его разудалого вида. Шульцев от телевизора отозвался тоном сварливой старухи: «Дайте новости досмотреть!».
– Первые минуты матросы терялись, особенно молодые: капитан 1 ранга усаживался рядом, как рядовой номер в своем посту. «Давай забудем о погонах, Ваня… Ты связист, и я связист…». Со мной отец родной так не говорил! Братцы мои, ребята преображались! «Ваня, не старайся мне что-то доказать… Вот твоя станция – скажи мне, что ты умеешь…» И матрос – без круглых глаз от звезд – начинал докладывать как плохенький, но связист. Рядом стоял командир БЧ и не узнавал своего матроса! «А теперь я расскажу, чего ты не знаешь – о твоей станции». 10–15 минут – и классность матроса менялась на целую ступень! Какая память включалась у матроса, как включалась – загадка. Но, я думаю, загадка больше в том, как капитан первого ранга сохранил способность переключаться на волну матроса! Матрос был ему интересен уровнем знаний и характером! Он исходил из этого, он двигал его по той колее, в которой матрос как раз и застрял… И запоминал матроса – всех запоминал! – по уровню знаний и способностей, как членов своей когорты от Совгавани до Сахалина и Курил. А уж они, думаю, будут его помнить всю оставшуюся жизнь…