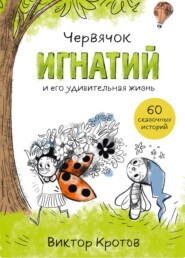По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Навстречу своему лучу. Воспоминания и мысли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К нашему двору, обнесённому оградой (старинной, церковной), примыкает небольшая площадь (вернее, просто трёхсторонний перекрёсток, но у детства другие масштабы), от которой вверх уходит Плющиха. На площадь выходит клуб завода «Каучук» («Клуб Каучук», как мы его называли), творение знаменитого конструктивиста Мельникова, о чём я узнал намного позже. Вдоль Плющихи, за забором, от клуба тянется длинная оранжерея. А через несколько домов, напротив Академии Фрунзе, жила Мария Андреевна Гаевская, мамина наставница, потом коллега и просто друг. Она обитала в какой-то пристройке на первом (или единственном) этаже. Всегда радостно принимала нас, поила чаем с вареньем, расспрашивала про жизнь. Выше по Плющихе, на другой стороне, стоит серое здание школы №34, где когда-то работала бабушка.
А дальше – вправо от Плющихи – Неопалимовский переулок, он вёл к Дому пионеров тогдашнего Фрунзенского района, располагавшемуся на перекрёстке с Земледельческим переулком.
Случалось и так, что старушка-Плющиха временно преображалась: надевала дореволюционные вывески. Мы не удивлялись: значит, опять снимают кино.
Если идти в другую сторону от родного двора, то и Клиническая, и Погодинка, и Большая Пироговская уходят туда, где начинаются подступы к Новодевичьему монастырю, к пруду с лебедями. Дальше, за Новодевичьим, начинались Лужники. На больших площадках перед стадионом мы ездили на велосипедах, да и многое другое там происходило: учебная езда на автомобиле, подготовка к спортивному параду и прочее. Сейчас эти площадки растворились в более поздних городских реалиях.
Но что-то далеко я уже забрался, вернусь поближе к дому. В конце Погодинки стоит школа №35, первая моя школа. Ниже, к набережной – клуб фабрики Свердлова, здесь мы часто смотрели кино. Обычно чёрно-белое, но уже появлялись и цветные фильмы.
За Девичкой, если перейти Большую Пироговскую и взять влево, по переулкам шёл маршрут к сороковой школе, второй из моих трёх школ. Неподалёку от этого маршрута – музей-усадьба Льва Толстого. Правее – детский дом (в котором одно время работал отец), вьетнамское посольство, где стоял стенд с фотографиями чужой жизни – экзотической, хотя и социалистической. Глубже уходил Хользунов переулок: с загадочной башенкой на доме, с надписью «Анатомическiй театръ» на одном из зданий медицинского института, с «парком Мандельштама» (не поэта, конечно, а учёного), с каким-то важным военным зданием.
Описал я, конечно, не всё, а лишь то, что вспомнилось раньше остального.
Тянет ли меня туда сейчас? Да нет. Но я много раз бывал там уже взрослым, всегда с большим интересом и вниманием. Родные места полны таинственной притягательности. И тем, что остались в чём-то прежними, и тем, что во многом изменились.
Привязанность или признательность?
Какое-то тёплое чувство к местам, где я долго жил, – прежде всего, к дому два по Клинической улице – я испытывал всегда, ощущаю его и до сих пор. Каждый раз, когда я оказывался в этом районе волей обстоятельств, мне было любопытно вглядеться в своё прошлое. Иногда даже сворачивал к родному двору, если был недалеко: взглянуть, что там сейчас. Но никогда не ездил туда специально.
И не было ностальгии по утраченному, не было печали. Меня это даже порою беспокоило – есть ли у меня привязанность к местам моего детства? Или я монстр бесчувственный?
Нет, не привязанность. Слишком в этом слове ощущается «привязь», несвобода. Тем более не ностальгия, от неё веет печалью, унынием. Это швартовы корабля, не желающего уплывать… Но признательность родным местам с годами становится сильнее. Всё отчётливее я понимаю, что мне достались особые «обстоятельства места»: сочетание городского разнообразия с достаточным для ребёнка простором, двор без дворовой шпаны, да ещё заросли акаций и тополя…
В слове «признательность» слышится и значительность того, что с тобой происходило, и появившееся со временем знание о смысле тогдашних знаков судьбы, и даже их таинственный призыв к сегодняшнему дню… Признательность охватывает не только естественную благодарность родителям и окружающим людям, но и старые газеты, которые нашлись вместо пелёнок в роддоме, и котёл, вмурованный в печь, который был моим первым кабинетом для занятий самопознанием.
В жизни всё изменяется. Память оказалась гораздо прочнее и просторнее, чем я думал, когда принимался за книгу воспоминаний. Может быть, эта прочность возникает благодаря признательности?..
Детский сад и его наказания
В детском саду я был недолго. Он находился на Усачёвке[55 - Усачёвская улица.], позади 51-й поликлиники, где работала тётя Дея[56 - Дея Лазаревна Пигарева.], мамина сестра. Иногда меня отвозил туда на трамвае дедушка, и почему-то запомнилось мне только это «иногда».
Мой крошечный детсадовский опыт был вполне достаточным для этой диковинной страницы детских впечатлений. Наверное, чуть больше – и мне вовсе не хотелось бы вспоминать о ней.
Миром детского сада (речь о той группе, куда я ходил, но она для меня этот мир и исчерпывала) правили две широкоформатные, по моим тогдашним мелкомасштабным впечатлениям, воспитательницы. Отличить их друг от друга мне было не дано.
Хорошо памятны пищевые проблемы. Особенно один вид супа. Есть его надо было обязательно, а меня тошнило уже от одного его запаха. Наказание за несъеденное блюдо было известно: ослушника отправляли стоять в шкафчике с одеждой. Поэтому, почуяв «свой» суп, я тут же вставал из-за столика и отправлялся в раздевалку, где залезал в своё узенькое отделение и пребывал там, пока не позволяли выйти. Других ставили силой. Но я был очень послушным.
Ещё у меня была странная нелюбовь к красной икре, которая тогда была вполне обыденным продуктом. Когда давали бутерброды с икрой, я потихоньку сбрасывал с хлеба на пол икринку за икринкой, они были довольно подсохшие. Почему-то не помню, чтобы меня за это наказывали, хотя должны были бы. Неужели я делал это так незаметно?..
Практиковались наказания и поэффектней одёжного шкафчика. Помню мальчика, лежащего в кровати, и очередь остальных детей, которые должны были пройти мимо кровати. Каждый обязан был шлёпнуть провинившегося по красной попке, мягкой и беззащитной. В чём он провинился?.. Не знаю.
Был и другой способ наказания стыдом: мальчика раздевали догола и приводили в девчачью группу. Меня такому не подвергали, и за что полагалось такое возмездие, осталось мне неизвестным.
Решительно не помню ни одного какого-нибудь воспитательного мгновения: каких-то игр, чтения книжки, занятия, просто человеческого разговора. Или такая уж неудачная память, или такой уж неудачный детский сад. Ходил я туда месяца два или три: слишком уж мне было там не по себе, и родители это понимали.
Младшего брата, Максима, я возил зимой на санках в его детский сад, другой, туда и обратно, по Хользунову переулку[57 - Хользунов переулок: так называли его между собой, хотя официальное название – переулок Хользунова.]. Помню, что демонстрировал ему, как делают тетради на фабрике беловых товаров[58 - Фабрика беловых товаров – это где делают школьные тетради, записные книжки, альбомы для рисования и т. д.], мимо полуподвальных окон которой мы проезжали.
Бегал за молочным кормом для него на молочную кухню, работавшую в очень ранний час. Кефир и молоко были в двухсотграммовых бутылочках, заткнутых обычными ватками. Для бутылочек прекрасно подходила сумочка-корзинка, плетёная из разноцветных пластмассовых полосок.
Рассказываю об этом, чтобы закончить печальную главку не совсем в миноре. Хотя, может быть, и у Максима не самые радостные воспоминания о своём детском саде.
Игры пустынного двора
Двор наш был каким-то полуостровом – не то чтобы совсем оторванным от остального города, но всё-таки в значительной степени отделённым от него. Играли мы обычно со своими: с подрастающими братьями, с приезжающими порою родственниками-детьми, с немногими знакомыми детьми соседей… С кем-то ещё?.. Вряд ли смогу уверенно сказать. Играли на пустынной земляной площадке, пыльноватой и каменистой, но довольно ровной и просторной. Летом обычно наша семья ездила в пионерлагеря, но были ещё весна и осень. Зимой чаще ходили с санками на Девичку.
Играли в казаки-разбойники: одна группа пряталась от другой, оставляя за собой указательные стрелки. Название игры давнее, дореволюционное. Наверное, с давних времён она до нас и дошла.
В ножички играли. Например, чтобы перочинный ножик, разными способами брошенный (с локтя, с колена и т.д.), воткнулся в землю. Не воткнулся, упал, тогда другой начинает свою цепочку бросков, или продолжает прерванную.
Ещё одна игра в ножички: чертили общий круг, по очереди кидали в него ножик. Если воткнулся, проводишь черту в направлении, заданном плоскостью лезвия. Эта черта определяла завоёванный участок круга, принадлежащий теперь тебе. Так постепенно делили круг между собой. Пока оставалось ещё незанятое пространство. Надо было стоять, кидая ножик, именно на своём участке, даже если приходилось балансировать на носочке одной ноги. Выигрывал наибольший «землевладелец». Кажется, это называлось «играть в города».
Играли мячом в вышибалы. Это ещё называлось почему-то круговой лаптой. Все «в кругу» (впрочем, прямоугольном), кроме двух водящих, старавшихся осалить[59 - Осалить: сейчас даже это слово уже не всегда понятно. Так что на всякий случай поясняю, что это значит коснуться рукой (в салочках) или мячиком (например, в круговой лапте).] остальных мячиком.
Была ещё «американка». Что-то вроде тенниса, только без ракеток, а вместо сетки – черта на земле. Мяч любой мог быть, не обязательно теннисный. Играли в неё один на один.
Когда набиралось несколько человек, играли в «штандер»[60 - «Штандер»: по-немецки означает «вымпел, флажок». Видимо, этот возглас означает: застынь неподвижно, как флажок! Впрочем, игра хорошо описана в википедии.]. Вставали в кружок, и водящий высоко бросал мяч, называя кого-то из играющих. Пока тот ловил, все разбегались подальше. Поймавший кричал: «Штандер!», – и все замирали. Он выбирал кого поближе, кидал в него мяч. Если попал, водил осаленный. Не попал – сам виноват, водил снова.
Арсенал наших игр был космополитичен (тут и казаки, и американцы, и воспоминание о русской лапте, и немецкое «штандер» – всё перемешалось), но мы и не задумывались об этом. Нам было хорошо.
Были и более индивидуальные занятия для двора. Например, любил я делать и пускать ракеты. Делались они из туго свёрнутого рулончика фотоплёнки, тщательно завёрнутого в фольгу. С одной стороны надо было сделать сопло. Через него я поджигал плёнку, через него и реактивные силы срабатывали. Летала такая ракета, правда, не слишком далеко (не говоря уж о высоте) и зигзагами, но всё-таки совершала что-то вроде полёта.
Случалось лазить по крыше того бывшего храма, который мы считали складом. Вернее, по краям строения с замысловатым рельефом. Заглядывать в мутные уцелевшие окна, смутно различая груды досок и прочие материалы на полу, посреди совершенно нескладского зала.
Ещё одна дворовая забава – взрывание капсюлей. Правда, для этого требовался асфальт, но на Погодинку как раз выходил подходящий забор. Не помню, откуда они брались – кругленькие, медного цвета, с серебристым донышком. Надо было налепить капсюль пластилином на острый конец большого гвоздя и бросить откуда-нибудь сверху (например, с забора) на асфальт, чтобы раздался звук вроде выстрела. Это и доставляло удовольствие.
Чуть не забыл сказать про «секретики». Наверное, это девчачье занятие, но я об этом не знал, мне нравилось. Выкопаешь ямку в укромном месте, положишь туда что-нибудь яркое: хоть кусочки фольги, а то и штучки какие-то (бусины или что другое), закроешь ямку прозрачным стёклышком, присыплешь землёй так, чтобы никто случайно не разрыл, а для себя место запомнишь или обозначишь. Через месяц-другой (или назавтра, если терпения нет) придёшь, расчистишь стёклышко от земли, не вынимая его, и радуешься, любуешься. А потом снова закапываешь. Считать ли это игрой? Кто тогда выиграл?.. Ты и выиграл: порадовался.
Лет тридцать спустя, гуляя с маленькой дочкой Ксюшей и её подружкой (тоже Ксюшей), я научил их игре в «секретики». Они были в восторге! Моя Ксюша так увлеклась этой игрой, что развила идею до полноценных «кладов».
Сейчас Ксюша, уже совершеннолетняя, подошла ко мне, и я спросил:
– Помнишь, как мы «секретики» закапывали?
– Ещё бы! Помню даже, как мы целый клад в сундучке закопали – в Химках, возле качелей-лодочек. Десять разных примет обозначили: веточками, камушками, только вот не помню, что же мы в сундучок положили.
Тут мы стали обсуждать возможную находку сундучка потомками, а затем я вернулся к книге. Ищите, дорогие потомки, ищите!..
Родное становится незнакомым
Места, столько лет бывшие родными, обжитыми и привычными, после того, как их покидаешь, отчуждаются от тебя в двух направлениях.
Во-первых, меняешься ты сам: взрослеешь, переживаешь иные этапы судьбы, привыкаешь к другим районам обитания.
Во-вторых, меняется сама местность, когда-то знакомая до мельчайших подробностей. Что-то снесено, построено, перекрашено, реконструировано – и вот, попадая сюда вновь, необходимо делать усилия, чтобы совместить память с сегодняшней реальностью. Не знаю, как происходит там, где обстановка более стабильная. Москва изменяется энергично. Хотя, наверное, при любой стабильности что-то ветшает, разрушается, строится. Должно быть, чем меньше изменения, тем острее они на тебя действуют. И всегда остаётся первое направление отчуждения: в тебе самом.
Поэтому, развиваясь, стоит постепенно заменять привязанность признательностью. Тогда, созревая, будешь готов не только к тому, что осенью листва изменяет свой цвет, но и к расставанию с деревом, с садом, с земной жизнью. Это не мешает радоваться тому, что жизнь продолжается. Радость – это сердечная признательность к длящемуся «сейчас».
Пожалуй, есть и ещё одно направление… нет, не отчуждения, но вырастания, расставания. Это расходящиеся от души круги, которые охватывают всё большее пространство внимания. От комнаты к квартире, от квартиры к дому, к деревне или району, к городу, к стране, к другим странам, к планете, к мирозданию… И то, что было родным и единственным, становится клеточкой, из которой прорастает новое, глубинное родство, которое, может быть, ощущал всегда, но постепенно стал осознавать всё более явно.