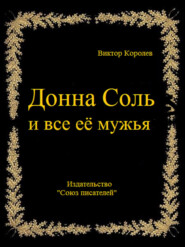По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самый страшный день войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Об этом рассказал перед началом работ молодой военный с двумя кубиками на петлицах.
– Это вам не канава! Это важнейший стратегический объект, – вещал он, мотая головой и срывая голос. – Ров должен спасти наш родной город от вражеских танков. И создавать его надо качественно, по регламенту. Два метра глубина, пять метров ширина поверху. Одна стена должна иметь уклон сорок пять градусов, другая – шестьдесят. Это чтобы земля с откосов не осыпалась. Буду проверять лично, так что халтурить не советую. Надеюсь, все понимают, что тут тоже фронт, пусть и трудовой…
Разобрали инструменты, и началась безостановочная, ужасно тяжёлая работа. Ближе к вечеру позволили развести костры, а тех, кто совсем выбился из сил, отправили готовить ужин. Любушка попала в их число.
Сверху она видела, как этот строгий военный ходил по дну канавы с землемерным циркулем и транспортиром. Ругался, заставлял исправлять огрехи. И сколько человек работает, тоже было видно сверху. Сотни людей, как муравьи, копошатся в гигантской канаве. Её дома не видно отсюда: до Александровки километра три, и то если напрямки, лесом.
Уже стемнело, когда разрешили всем подняться наверх, к кострам. Люба подошла к военному.
– Разрешите спросить, товарищ командир?
– Разрешаю, коли такая смелая.
– Я вот сверху видела, как вы угол меряете на глазок транспортиром маленьким. А можно ведь шаблоном. Быстрее во много раз будет…
– Каким таким шаблоном?
– Ну… Сколотить из досок или из фанеры щит, одна боковина под сорок пять градусов, другая – под шестьдесят. Укрепить его на двухколёсной оси, и лошадь его протянет по дну рва, сразу все погрешности срезая. А если где совсем уж не соблюдены размеры, возница лопатой сам всё исправит…
Военный долго смотрел на неё.
– Надо же! Такая худая, а умная!
– Если меня кормить, отъемся быстро! – почему-то ответила Любушка.
И засмеялась. Военный улыбнулся тоже. Как-то по-доброму, тепло.
– Как звать-то тебя? Любушкой? Красивое имя! Молодец, Любушка!
Следующие три дня Люба работала возчиком шаблона, потом стала официальным бригадиром, главной над тридцатью землекопами. А на четвёртый день прилетели немецкие самолёты.
Сначала все услышали жужжание моторов. Хоть и далеко ещё, но всем показалось, что это не наши, не по-нашему гудят – как-то зловеще, что ли. Потом увидели их, когда они стали собираться в стаи над городом, словно осы или птицы какие-то. И эти стаи кинулись клевать дома. Всё на горизонте задымило, заволокло облаками серой пыли. А тут же раскатами загрохотало, докатилось до них эхо взрывов.
Самолёты уходили к лесу, перестраивались. И там они тоже сбрасывали бомбы. Прямо на Александровку. Кто-то прибежал из знакомых:
– Люба, в ваш дом бомба попала! Беги скорей!
Она не помнит, как промчалась через лес эти три километра.
Вместо дома – огромная дымящаяся воронка. С одного края догорала баня, с другого – сарай. Всё в щепки, всё в саже, какие-то обгоревшие бумажки летают в воздухе, словно чёрные бабочки.
– Мать-то твоя с отчимом в город уехали с утра. Никого дома не было, считай, повезло, – нашёптывала соседка.
Приехали пожарные. Залили остатки сарая, дали подписать какие-то бумаги, уехали.
Отчим с матерью примчались, оба белые, как полотно. Отчим одной рукой пытался ковырять обгоревшим поленом чёрные клочья. Заначку свою, наверное, искал. Потом подошёл.
– Ладно, ништо… Компенсацию получим за дом – новый купим, сейчас задёшево вдовы отдают…
– Не будет компенсации, я уже документы подписала, всё в фонд обороны пойдёт, – по привычке, не глядя на него, тихо сказала Люба.
Отчим уставился на неё, выпучив глаза. Лицо его сначала зарозовело, потом стало красным, а потом багровым, с синеватым отливом. Обгоревшее полено, сжатое когтистой клешнёй, поднималось медленно-медленно, как в кино.
– Любушка, твою мать, что ж я сразу-то тебя не прибил?! Стой, тварь!
Убежала в одном жакете с комсомольским билетом в кармашке. Ночевала в стогу, было очень холодно и страшно, есть хотелось до колик в животе.
На окопы больше не пошла. Утром добралась до города, в райкоме комсомола рассказала всё как было, там дали какую-то записку в военкомат.
– Математику сдала на «хорошо» – это хорошо, – сказал военком. – Что добровольцем хочешь на фронт, это тоже хорошо. Мог бы тебя прямо сейчас в школу зенитчиц определить, но уж больно ты худая!
– Если кормить, я быстро отъемся! – устало выдавила из себя Любушка.
Военком усмехнулся. Выписал предписание.
– На! Во дворе стоит машина, водителю отдашь – и в добрый час!
Отдала бумагу, залезла в кузов. Там на скамье спиной к кабине уже сидела одна девушка. Назвалась Катей. Оказалось, что ехать им вместе, в школу зенитчиц. Катя протянула Любе полгорбушки чёрного хлеба.
– Хочешь есть? Бери! Больше у меня ничего нет.
Когда машина тронулась, они уже были подругами на всю оставшуюся жизнь. Обнялись и обе уснули, хотя трясло в кузове изрядно.
Любушке приснился отец. Как всегда, добрый. Мягкими руками он гладил её по голове.
Катя
«Мама, мама! Я помню руки твои… Ты проводила на войну сыновей, – если не ты, так другая, такая же, как ты, – иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты… Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости…»
Александр Фадеев. «Молодая гвардия»
Катя спала, прижавшись спиной к кабине полуторки. Ей снилась мама.
Мама у неё была очень красивая. На актрису немого кино Веру Холодную похожа. Такой же прямой нос, выразительные глаза, вьющиеся тёмные волосы. Мама все фильмы с её участием видела, а когда ездила по профсоюзной путёвке в Одессу, ходила там на кладбище, цветы положила на её могилу.
У мамы на столике перед зеркалом стояла почтовая открытка с портретом этой актрисы. Мама говорила, что эту открытку ей Алик давно подарил.
Аликом она звала Катиного папу. Благодаря Вере Холодной мама с ним и познакомилась. Когда Катя подросла и просила маму рассказать о знакомстве, мама всегда счастливо улыбалась и в который раз вспоминала:
– Это на Пасху было, в двадцать третьем году. Начало апреля – это ранняя Пасха считается. Но снегу уже не было, очень тёплый и солнечный день. Так радостно было на душе после всенощной! А как вышли на паперть, я его сразу увидала. Стоит, рыжий-рыжий, жмурится на солнце, голова без кепки, очки блестят, волосы огнём горят. А я возьми да и скажи: «Христос воскресе!» Он мне: «Воистину воскресе!» А я ему: «Так и похристосоваться бы надобно!» Трижды расцеловались. У меня платок с головы сползать стал, я его поправлять, а тут прямо глаза в глаза – взглядами-то и встретились. И всё – пропала я…
В этом месте мама всегда замолкала, и Катя давала ей передышки.
– А потом, мам? Что потом было?
– Да ты же всё знаешь, чего уж теперь? – снова улыбалась мама. – Потом он сказал мне: «Вы похожи на артистку Веру Холодную. Такая же красивая». А я ему: «Только я не холодная. Да и вы… Вы похожи на огонь». Вот и всё. Это был самый счастливый день в моей жизни. А потом ещё был Духов день, он в те года был выходным, праздничным. Пошли с подругами к реке. Они венки в воду бросают: потонет – жди несчастья, поплывёт – к радости большой. Мой веночек поплыл, и в тот же миг я поняла, что зимой ты у меня родишься, красавица моя золотая!..
Катя родилась рыженькой, в отца. Случилось это в январе двадцать четвёртого года, в тот самый день, когда умер Ленин. От отцовства Алик не отказывался, и в метриках Катя оказалась Альфредовной. По новому закону аборты запрещались, внебрачных детей в СССР больше не существовало, любое сожительство стало считаться браком, но алименты – это уж будьте любезны.