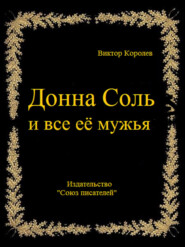По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По следам Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казалось, суровость была дана ему от природы. Он никогда не смеялся и казался бульдогом, который, не смея никогда приласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть всех, кои воспротивились бы воле хозяина. Жесток и беспощаден был этот суровый и всесильный человек.
Однако, как утверждает писатель и историк В. А. Сухово-Кобылин, потомки слишком строги в своем приговоре Аракчееву, они даже строже, чем он сам был в жизни. «Неоспоримо, – пишет он, – что Аракчеева было бы странно назвать человеком добрым. Он был неумолим ко взяточничеству или нерадению по службе. Тому, кто пробовал его обмануть (а обмануть его было трудно, почти невозможно), он никогда не прощал; мало того: он вечно преследовал виновного, но и оказывал снисхождение к ошибкам, в которых ему признавались откровенно, и был человеком безукоризненно справедливым; в бесполезной жестокости его никто не вправе упрекнуть».
Аракчеев был «деятельности неутомимой». Во время походов, лишь только армия занимала дневные квартиры, его канцелярия мигом принималась за дело. От его зоркого глаза не ускользала ни одна, даже самая мелкая проблема вверенного ему министерства. Бездельников он не терпел.
Россию поднял на дыбы
Только что взошедший на престол Павел I встретил прибывшего в Зимний дворец Аракчеева словами:
– Смотри, Алексей Андреевич, служи мне верно, как и прежде. Со временем я сделаю из тебя человека.
Затем призвал старшего сына Александра и соединил их руки, напутствуя:
– Будьте всегда друзьями и помогайте мне!
Аракчеев любил вспоминать, как в тот день великий князь и наследник Александр отдал ему свою рубашку, чтобы тот сменил забрызганную грязью одежду. Эту рубашку граф свято хранил до конца своих дней.
После коронации Павел I провел некоторое время в Москве, а вскоре предпринял осмотр западных губерний России. В путешествии его сопровождал и Аракчеев. Сохранилась записка наследника Александра к Аракчееву в связи с этим назначением: «Друг мой Алексей Андреевич! Я пересказать тебе не могу, как я рад, что ты с нами будешь. Одно у меня беспокойство – это твое здоровье. Побереги себя ради меня».
Осенью 1796 года Аракчеева производят в генерал-майоры и назначают комендантом Петербурга, затем – начальником свиты Его Императорского Величества. Император Павел, как известно, запросто возвышал и так же легко удалял в опалу. В 1798 году император уволил Аракчеева «без прошения в отставку». Через неделю он возвратит его на службу, назначит инспектором всей артиллерии и возложит на него обязанность отдавать «предварительные распоряжения по армии» от своего имени. 5 мая 1799 года Аракчеев получит графский титул «за отличие, усердие и труды, на пользу российскаго Отечества подъемлемые». В качестве подарка он получит село Грузино с двумя тысячами душ. А спустя пять месяцев по лживому доносу вновь будет отправлен в отставку – на долгих четыре года, за которые молодой граф создаст в своем имении по красоте и архитектуре вторую Гатчину, второе Царское Село, а может быть, и второй Версаль.
«Алексей Андреевич! Имея нужду видеться с вами, прошу приехать в Петербург». Записку такого содержания спустя ровно месяц после восшествия на трон, 23 апреля 1803 года, Александр I отправил в Грузино. Так начался второй виток карьеры Аракчеева, вскоре ставшего фактически вторым лицом в государстве и единственным, кому государь безоговорочно доверял. С 1812 года Аракчеев был единственным докладчиком у императора по военным, дипломатическим вопросам, управлению и снабжению армии. Целое десятилетие любое важное лицо, нуждавшееся в аудиенции императора, сперва должно было явиться к Аракчееву, а тот уже докладывал Александру I. Через него шли и все назначения высших сановников империи.
По окончании войны с французами Александр I подолгу жил за границей, и Аракчеев стал играть особую роль в управлении империей. Он безукоризненно выполнял все решения императора, касались ли они реформ в армии, военных поселений или проекта освобождения крестьян. Это время, когда он был «и. о. императора», позднее и назвали потомки «аракчеевщиной».
Тираны мира! Трепещите!.
В 1818 году царь поручил Аракчееву разработать проект отмены крепостного права.
Проект графа предусматривал поэтапный выкуп в казну помещичьих имений с наделением всех помещичьих крестьян и дворовых людей двумя десятинами на каждую ревизскую душу, помещики же получали бы за освобождаемых крестьян деньги. Эти идеи в дальнейшем были, по существу, положены в основу крестьянской реформы 1861 года. Я не хочу, конечно, сказать, что Аракчеев покруче Чаадаева или тех же декабристов. Но факт остается фактом: его идеи оказались настолько революционными, что весь проект графа был немедленно засекречен.
В том же самом 1818 году вчерашний лицеист Пушкин, наслушавшись всяких антикрепостнических высказываний во время ночных посиделок с друзьями за карточным столом, много раздумывает на ту же тему. Как и сиятельного графа, как и новых петербургских друзей, поэта волнует, когда же кончится это «барство дикое».
Сказать по правде, волнует это его совсем не потому, что он революционер до мозга костей и в 19 лет готов «кишкой последнего царя последнего попа удавить», чтобы только русский крестьянин жил свободно и независимо. Он такой же помещик, как и все его друзья. Как его отец и мать, как дед и прадед. И сейчас, и позже для Пушкина крепостные – это просто дворня, няня с ее чудо-сказками да верный слуга Никита, который, если что, и в последний путь проводит. Большее поэта никогда не интересовало. Перечитайте еще раз, везде одно и то же: «Я крикнул шампанского. Подали шампанское». Народ у него, по-моему, всегда безлик, всегда безмолвствует.
Однако тогда, в 1818 году, было модно фрондировать, рассуждать за столом о свободе вообще и о вольности народа, в частности. Свобода, равенство, братство – это были осколки Великой французской революции, ранившие тех молодых людей, которым не довелось повоевать. О, свобода! Впрочем, о чем ещё они могли мечтать в таких тесных лосинах и мундирах…
Так или не так, но дальше идет сплошная классика, вызубренная нами со школьных лет. Пушкин пишет оду «Вольность», за что царь ссылает его в ссылку. Если бы не друзья молодого поэта, его отправили бы в Сибирь, где он до конца жизни «хранил бы гордое терпенье». Скорей всего, и не было бы «нашего русского всё». Но друзья заступились, упросили государя, тот смилостивился, и Пушкин оказался хоть и в ссылке, но на юге.
Судьба, скажете вы? А вот и нет. Счастливая случайность на этот раз имела вполне конкретное имя, и звали ее не Карамзин с Жуковским, а граф Алексей Аракчеев. Прошу не забывать, что по своим временам это был очень образованный человек. По крайней мере, в ближнем царском окружении. Да, не знал французского и прочих языков, да, имел за спиной всего кадетский корпус. Но зато каждый божий день начинал граф с чтения свежих газет и новых книг. Не по долгу службы, интереса ради читал и то, что ходило по Санкт-Петербургу в рукописных списках.
Так что с одой «Вольность», с «Деревней» и другими стихами вольнодумного поэта он был знаком. И в 1818 году не он докладывал царю, что вчерашний выпускник лицея Пушкин крамолу пишет – это дело Бенкендорфа, а жандармов генерал Аракчеев никогда не жаловал. Но при докладе сем присутствовал, и когда государь спросил подробностей, никто из тайной полиции ответить не мог, что за крамола – не знали слов иль побоялись произнести страшное: «Тираны мира! трепещите!..»
И в наступившей тишине вдруг раздался хрипловатый голос Аракчеева, стоявшего по своему обыкновению у окна царского кабинета:
«Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок…»
Он не стал читать до конца. Царь долго молчал и смотрел на него, легким движением руки отпустив с доклада всех остальных.
– Ты знаешь его стихи? И каковы же они? – наконец, спросил Александр.
– Ваше Императорское Величество! Стихи г-на Пушкина знает весь Петербург, потому как они ходят в списках. Этот отрок и талантлив, и уже популярен чрезвычайно. И то, и другое мешает просто взять и высечь его, хотя того стоило бы. Но из гадкого щенка может вырасти очень породистая собака, которая и службу будет знать, и границы охранять станет на дальних подступах. Ей бы только солнца побольше, чтоб не зачахла…
– Стало быть, по-твоему, не казнить отрока и не в Сибирь его, а, наоборот, на юга полуденные? – нахмурился царь.
– Мой государь, вы, как всегда, приняли мудрое решение, – поклонился императору Аракчеев.
– Сколько я тебя знаю, Алексей Андреевич, не перестаю удивляться твоей прозорливости, иногда настолько, что начинаю побаиваться тебя! – улыбнулся царь, довольный, что быстро разрешилось то, что могло вылиться в кровавую драму.
– Вам ни к чему побаиваться того, кто предан вам до последнего вдоха, – снова поклонился царю Аракчеев. – Мне не было двадцати лет, когда я впервые имел счастье лично познакомиться с вами – столько же и Пушкину сейчас. И никому не дано знать, что из отрока сего вырастет…
Это был первый случай, когда Аракчеев спас великого поэта от верной каторги или чего еще похуже. Первый, но далеко не последний. Второй раз это случится в 1820 году, когда граф Воронцов пожалуется на поэта царю, а Аракчеев скажет, оскалясь какой-то загадочно-счастливой улыбкой:
– Государь, кто влюблен, тому многое может проститься!
– Похоже, вам обоим многое прощается, – ответит сурово император, но тут же возьмет перо и отправит уволенного со службы поэта не в сибирскую ссылку, как собирался, а «на постоянное жительство в село Михайловское Псковской губернии под надзор местного начальства и родителей поименованного выше г-на Пушкина».
Чистейшей прелести чистейший образец
Пушкин оставил после себя десять гениальных томов и четверых детей. Несмотря на «донжуанский список» и массу слухов о своих побочных детях, великий поэт заставил нас поверить, что единственной и неповторимой его любовью была Наталья Николаевна Гончарова – «чистейшей прелести чистейший образец».
Пушкин погиб в 37 лет. Аракчеев в 37 лет только женился. Граф не оставил ни перечня донжуанских подвигов, ни детей. В его жизни было две женщины. Первую, свою жену он, наверное, смог бы полюбить, если б она явила собой «чистейший образец» его мыслей и представлений о преданности. И кто знает, может, совсем не так сложилась бы его судьба, и совсем не такое негативное мнение он оставил бы о себе потомкам.
Он не искал чинов в приданое, как вообще никогда и не от кого не искал чинов и наград. Он просто хотел семейного счастья, которое в его представлении означало, прежде всего, взаимное уважение.
«Любовь и дружба ее есть единое мое исканное в ней благополучие, чего я единственно прошу от Всевышнего, а без оного, по чувствительному моему характеру, я не могу быть здоров и счастлив». Так писал он о своей избраннице незадолго до свадьбы.
4-го февраля 1806 года Аракчеев обвенчался с Натальей Федоровной Хомутовой, дочерью малоизвестного генерал-майора, занимавшегося рекрутским набором. В тот же день новоявленная графиня получила по императорскому указу Екатерининский орден 2-й степени – одну из высших «женских» наград Российской империи.
Наверное, сидя «на золотом крыльце», царь с царицей думали, что самый лучший подарок на свадьбу молодой женщине – фрейлинский статус. Он давал право без приглашения появляться при дворе, посещать все балы в высшем свете. Короче, открывал любые двери – танцуй хоть до упаду. Можешь с мужем, можешь одна – никто с тебя не спросит, никто не осудит.
Чем закончилась для Натали Гончаровой и ее мужа эта «фрейлинская» безудержная свобода, мы все знаем. А как она начиналась, почему-то забываем. Мать поэта вела в то время хронику жизни своей. «Александр в деревне, – пишет она 13 февраля 1834 года. – Его сделали камер-юнкером. Его жена теперь на всех балах, она была и в Аничковом. Она много танцует, хотя, похоже, брюхата…»
Беспристрастная хроника продолжается спустя неделю: «Натали на всех балах, всегда хороша, элегантна, везде принята с лаской; всякий день возвращается в четыре или в пять часов утра, обедает в 8 вечера, встает из-за стола, чтобы взяться за туалет и мчаться на бал. Через две недели она поедет в деревню».
В деревню к мужу в тот раз она не поехала ни через две недели, ни через месяц. Вот дальше запись из дневника ее свекрови: «В воскресенье вечером, на последнем балу при дворе, Натали сделалось дурно после двух туров мазурки; едва поспела она удалиться в уборную императрицы, как почувствовала боли такие сильные, что, возвратившись домой, выкинула. И вот она пластом лежит в постели после того, как прыгала всю зиму и, наконец, всю масленицу, будучи два месяца брюхата…»
Не знаю, как вам, а мне этот «чистейшей прелести чистейший образец», всю ночь прыгающий по паркету с ребенком в животе, не очень симпатичен. На рисованных портретах она смотрится значительно лучше. Впрочем, известно, что поэт всегда уезжал в свою деревню, когда узнавал об очередной беременности жены. Так сказать, землю попашет, попишет стихи. Дети рождались не в его присутствии. В его присутствии рождались стихи. Для него это было важнее, чем «Машка, Сашка, Гришка, Наташка». И бальные флирты жены он прощал – до поры до времени…
Оставим чету Пушкиных и вернемся к молодоженам Аракчеевым. В отличие от Гончаровой, новоиспеченная графиня не успела подарить мужу ребенка. Прожили вместе они всего год. Несогласие супругов во взглядах стало проявляться все чаще, и граф с удивлением обнаружил, что его дела, его симпатии и антипатии для молодой жены совершенно безразличны, что, прожив все лето в Грузино, она так и не могла полюбить его детище. А к зиме она явно затосковала по Петербургу и прямо заявила мужу, что до сих пор не использовала свой фрейлинский статус, не появившись ни на одном балу в свете. Он отпустил ее в столицу.
Нет точных сведений, как вела себя графиня на балах. Видимо, тоже прыгала всю ночь по паркету. И, конечно, нашлись доброхоты, тут же сообщившие графу обо всех ее «партнерах по мазурке». Граф прибыл в Петербург, имел с женой серьезный разговор и при ней приказал своим людям, чтобы графиня впредь не выезжала одна.
По сути, это был домашний арест. Несмотря на это, однажды вечером, когда мужа не было дома, она потребовала подать карету и назвала адрес, куда ехать. На отданный ею приказ лакей, поклонившись, ответил: «Их сиятельством графом сделано запрещение вам ездить одной». Карета так и простояла у крыльца до возвращения Аракчеева и до нового скандала, в конце которого граф заявил жене, что отныне она лишается права делать какиелибо траты без его ведома.
Вряд ли граф понимал, что женщине можно запретить ездить на танцы и расточать там улыбки в обмен на знаки внимания, так необходимые ее натуре, можно запретить ей вообще появляться в свете. Но лишить ее скудных копеек на личные расходы – это значит, оскорбить в ней женщину, лишить ее «женскаго» пола и смысла жизни.
Однако, как утверждает писатель и историк В. А. Сухово-Кобылин, потомки слишком строги в своем приговоре Аракчееву, они даже строже, чем он сам был в жизни. «Неоспоримо, – пишет он, – что Аракчеева было бы странно назвать человеком добрым. Он был неумолим ко взяточничеству или нерадению по службе. Тому, кто пробовал его обмануть (а обмануть его было трудно, почти невозможно), он никогда не прощал; мало того: он вечно преследовал виновного, но и оказывал снисхождение к ошибкам, в которых ему признавались откровенно, и был человеком безукоризненно справедливым; в бесполезной жестокости его никто не вправе упрекнуть».
Аракчеев был «деятельности неутомимой». Во время походов, лишь только армия занимала дневные квартиры, его канцелярия мигом принималась за дело. От его зоркого глаза не ускользала ни одна, даже самая мелкая проблема вверенного ему министерства. Бездельников он не терпел.
Россию поднял на дыбы
Только что взошедший на престол Павел I встретил прибывшего в Зимний дворец Аракчеева словами:
– Смотри, Алексей Андреевич, служи мне верно, как и прежде. Со временем я сделаю из тебя человека.
Затем призвал старшего сына Александра и соединил их руки, напутствуя:
– Будьте всегда друзьями и помогайте мне!
Аракчеев любил вспоминать, как в тот день великий князь и наследник Александр отдал ему свою рубашку, чтобы тот сменил забрызганную грязью одежду. Эту рубашку граф свято хранил до конца своих дней.
После коронации Павел I провел некоторое время в Москве, а вскоре предпринял осмотр западных губерний России. В путешествии его сопровождал и Аракчеев. Сохранилась записка наследника Александра к Аракчееву в связи с этим назначением: «Друг мой Алексей Андреевич! Я пересказать тебе не могу, как я рад, что ты с нами будешь. Одно у меня беспокойство – это твое здоровье. Побереги себя ради меня».
Осенью 1796 года Аракчеева производят в генерал-майоры и назначают комендантом Петербурга, затем – начальником свиты Его Императорского Величества. Император Павел, как известно, запросто возвышал и так же легко удалял в опалу. В 1798 году император уволил Аракчеева «без прошения в отставку». Через неделю он возвратит его на службу, назначит инспектором всей артиллерии и возложит на него обязанность отдавать «предварительные распоряжения по армии» от своего имени. 5 мая 1799 года Аракчеев получит графский титул «за отличие, усердие и труды, на пользу российскаго Отечества подъемлемые». В качестве подарка он получит село Грузино с двумя тысячами душ. А спустя пять месяцев по лживому доносу вновь будет отправлен в отставку – на долгих четыре года, за которые молодой граф создаст в своем имении по красоте и архитектуре вторую Гатчину, второе Царское Село, а может быть, и второй Версаль.
«Алексей Андреевич! Имея нужду видеться с вами, прошу приехать в Петербург». Записку такого содержания спустя ровно месяц после восшествия на трон, 23 апреля 1803 года, Александр I отправил в Грузино. Так начался второй виток карьеры Аракчеева, вскоре ставшего фактически вторым лицом в государстве и единственным, кому государь безоговорочно доверял. С 1812 года Аракчеев был единственным докладчиком у императора по военным, дипломатическим вопросам, управлению и снабжению армии. Целое десятилетие любое важное лицо, нуждавшееся в аудиенции императора, сперва должно было явиться к Аракчееву, а тот уже докладывал Александру I. Через него шли и все назначения высших сановников империи.
По окончании войны с французами Александр I подолгу жил за границей, и Аракчеев стал играть особую роль в управлении империей. Он безукоризненно выполнял все решения императора, касались ли они реформ в армии, военных поселений или проекта освобождения крестьян. Это время, когда он был «и. о. императора», позднее и назвали потомки «аракчеевщиной».
Тираны мира! Трепещите!.
В 1818 году царь поручил Аракчееву разработать проект отмены крепостного права.
Проект графа предусматривал поэтапный выкуп в казну помещичьих имений с наделением всех помещичьих крестьян и дворовых людей двумя десятинами на каждую ревизскую душу, помещики же получали бы за освобождаемых крестьян деньги. Эти идеи в дальнейшем были, по существу, положены в основу крестьянской реформы 1861 года. Я не хочу, конечно, сказать, что Аракчеев покруче Чаадаева или тех же декабристов. Но факт остается фактом: его идеи оказались настолько революционными, что весь проект графа был немедленно засекречен.
В том же самом 1818 году вчерашний лицеист Пушкин, наслушавшись всяких антикрепостнических высказываний во время ночных посиделок с друзьями за карточным столом, много раздумывает на ту же тему. Как и сиятельного графа, как и новых петербургских друзей, поэта волнует, когда же кончится это «барство дикое».
Сказать по правде, волнует это его совсем не потому, что он революционер до мозга костей и в 19 лет готов «кишкой последнего царя последнего попа удавить», чтобы только русский крестьянин жил свободно и независимо. Он такой же помещик, как и все его друзья. Как его отец и мать, как дед и прадед. И сейчас, и позже для Пушкина крепостные – это просто дворня, няня с ее чудо-сказками да верный слуга Никита, который, если что, и в последний путь проводит. Большее поэта никогда не интересовало. Перечитайте еще раз, везде одно и то же: «Я крикнул шампанского. Подали шампанское». Народ у него, по-моему, всегда безлик, всегда безмолвствует.
Однако тогда, в 1818 году, было модно фрондировать, рассуждать за столом о свободе вообще и о вольности народа, в частности. Свобода, равенство, братство – это были осколки Великой французской революции, ранившие тех молодых людей, которым не довелось повоевать. О, свобода! Впрочем, о чем ещё они могли мечтать в таких тесных лосинах и мундирах…
Так или не так, но дальше идет сплошная классика, вызубренная нами со школьных лет. Пушкин пишет оду «Вольность», за что царь ссылает его в ссылку. Если бы не друзья молодого поэта, его отправили бы в Сибирь, где он до конца жизни «хранил бы гордое терпенье». Скорей всего, и не было бы «нашего русского всё». Но друзья заступились, упросили государя, тот смилостивился, и Пушкин оказался хоть и в ссылке, но на юге.
Судьба, скажете вы? А вот и нет. Счастливая случайность на этот раз имела вполне конкретное имя, и звали ее не Карамзин с Жуковским, а граф Алексей Аракчеев. Прошу не забывать, что по своим временам это был очень образованный человек. По крайней мере, в ближнем царском окружении. Да, не знал французского и прочих языков, да, имел за спиной всего кадетский корпус. Но зато каждый божий день начинал граф с чтения свежих газет и новых книг. Не по долгу службы, интереса ради читал и то, что ходило по Санкт-Петербургу в рукописных списках.
Так что с одой «Вольность», с «Деревней» и другими стихами вольнодумного поэта он был знаком. И в 1818 году не он докладывал царю, что вчерашний выпускник лицея Пушкин крамолу пишет – это дело Бенкендорфа, а жандармов генерал Аракчеев никогда не жаловал. Но при докладе сем присутствовал, и когда государь спросил подробностей, никто из тайной полиции ответить не мог, что за крамола – не знали слов иль побоялись произнести страшное: «Тираны мира! трепещите!..»
И в наступившей тишине вдруг раздался хрипловатый голос Аракчеева, стоявшего по своему обыкновению у окна царского кабинета:
«Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок…»
Он не стал читать до конца. Царь долго молчал и смотрел на него, легким движением руки отпустив с доклада всех остальных.
– Ты знаешь его стихи? И каковы же они? – наконец, спросил Александр.
– Ваше Императорское Величество! Стихи г-на Пушкина знает весь Петербург, потому как они ходят в списках. Этот отрок и талантлив, и уже популярен чрезвычайно. И то, и другое мешает просто взять и высечь его, хотя того стоило бы. Но из гадкого щенка может вырасти очень породистая собака, которая и службу будет знать, и границы охранять станет на дальних подступах. Ей бы только солнца побольше, чтоб не зачахла…
– Стало быть, по-твоему, не казнить отрока и не в Сибирь его, а, наоборот, на юга полуденные? – нахмурился царь.
– Мой государь, вы, как всегда, приняли мудрое решение, – поклонился императору Аракчеев.
– Сколько я тебя знаю, Алексей Андреевич, не перестаю удивляться твоей прозорливости, иногда настолько, что начинаю побаиваться тебя! – улыбнулся царь, довольный, что быстро разрешилось то, что могло вылиться в кровавую драму.
– Вам ни к чему побаиваться того, кто предан вам до последнего вдоха, – снова поклонился царю Аракчеев. – Мне не было двадцати лет, когда я впервые имел счастье лично познакомиться с вами – столько же и Пушкину сейчас. И никому не дано знать, что из отрока сего вырастет…
Это был первый случай, когда Аракчеев спас великого поэта от верной каторги или чего еще похуже. Первый, но далеко не последний. Второй раз это случится в 1820 году, когда граф Воронцов пожалуется на поэта царю, а Аракчеев скажет, оскалясь какой-то загадочно-счастливой улыбкой:
– Государь, кто влюблен, тому многое может проститься!
– Похоже, вам обоим многое прощается, – ответит сурово император, но тут же возьмет перо и отправит уволенного со службы поэта не в сибирскую ссылку, как собирался, а «на постоянное жительство в село Михайловское Псковской губернии под надзор местного начальства и родителей поименованного выше г-на Пушкина».
Чистейшей прелести чистейший образец
Пушкин оставил после себя десять гениальных томов и четверых детей. Несмотря на «донжуанский список» и массу слухов о своих побочных детях, великий поэт заставил нас поверить, что единственной и неповторимой его любовью была Наталья Николаевна Гончарова – «чистейшей прелести чистейший образец».
Пушкин погиб в 37 лет. Аракчеев в 37 лет только женился. Граф не оставил ни перечня донжуанских подвигов, ни детей. В его жизни было две женщины. Первую, свою жену он, наверное, смог бы полюбить, если б она явила собой «чистейший образец» его мыслей и представлений о преданности. И кто знает, может, совсем не так сложилась бы его судьба, и совсем не такое негативное мнение он оставил бы о себе потомкам.
Он не искал чинов в приданое, как вообще никогда и не от кого не искал чинов и наград. Он просто хотел семейного счастья, которое в его представлении означало, прежде всего, взаимное уважение.
«Любовь и дружба ее есть единое мое исканное в ней благополучие, чего я единственно прошу от Всевышнего, а без оного, по чувствительному моему характеру, я не могу быть здоров и счастлив». Так писал он о своей избраннице незадолго до свадьбы.
4-го февраля 1806 года Аракчеев обвенчался с Натальей Федоровной Хомутовой, дочерью малоизвестного генерал-майора, занимавшегося рекрутским набором. В тот же день новоявленная графиня получила по императорскому указу Екатерининский орден 2-й степени – одну из высших «женских» наград Российской империи.
Наверное, сидя «на золотом крыльце», царь с царицей думали, что самый лучший подарок на свадьбу молодой женщине – фрейлинский статус. Он давал право без приглашения появляться при дворе, посещать все балы в высшем свете. Короче, открывал любые двери – танцуй хоть до упаду. Можешь с мужем, можешь одна – никто с тебя не спросит, никто не осудит.
Чем закончилась для Натали Гончаровой и ее мужа эта «фрейлинская» безудержная свобода, мы все знаем. А как она начиналась, почему-то забываем. Мать поэта вела в то время хронику жизни своей. «Александр в деревне, – пишет она 13 февраля 1834 года. – Его сделали камер-юнкером. Его жена теперь на всех балах, она была и в Аничковом. Она много танцует, хотя, похоже, брюхата…»
Беспристрастная хроника продолжается спустя неделю: «Натали на всех балах, всегда хороша, элегантна, везде принята с лаской; всякий день возвращается в четыре или в пять часов утра, обедает в 8 вечера, встает из-за стола, чтобы взяться за туалет и мчаться на бал. Через две недели она поедет в деревню».
В деревню к мужу в тот раз она не поехала ни через две недели, ни через месяц. Вот дальше запись из дневника ее свекрови: «В воскресенье вечером, на последнем балу при дворе, Натали сделалось дурно после двух туров мазурки; едва поспела она удалиться в уборную императрицы, как почувствовала боли такие сильные, что, возвратившись домой, выкинула. И вот она пластом лежит в постели после того, как прыгала всю зиму и, наконец, всю масленицу, будучи два месяца брюхата…»
Не знаю, как вам, а мне этот «чистейшей прелести чистейший образец», всю ночь прыгающий по паркету с ребенком в животе, не очень симпатичен. На рисованных портретах она смотрится значительно лучше. Впрочем, известно, что поэт всегда уезжал в свою деревню, когда узнавал об очередной беременности жены. Так сказать, землю попашет, попишет стихи. Дети рождались не в его присутствии. В его присутствии рождались стихи. Для него это было важнее, чем «Машка, Сашка, Гришка, Наташка». И бальные флирты жены он прощал – до поры до времени…
Оставим чету Пушкиных и вернемся к молодоженам Аракчеевым. В отличие от Гончаровой, новоиспеченная графиня не успела подарить мужу ребенка. Прожили вместе они всего год. Несогласие супругов во взглядах стало проявляться все чаще, и граф с удивлением обнаружил, что его дела, его симпатии и антипатии для молодой жены совершенно безразличны, что, прожив все лето в Грузино, она так и не могла полюбить его детище. А к зиме она явно затосковала по Петербургу и прямо заявила мужу, что до сих пор не использовала свой фрейлинский статус, не появившись ни на одном балу в свете. Он отпустил ее в столицу.
Нет точных сведений, как вела себя графиня на балах. Видимо, тоже прыгала всю ночь по паркету. И, конечно, нашлись доброхоты, тут же сообщившие графу обо всех ее «партнерах по мазурке». Граф прибыл в Петербург, имел с женой серьезный разговор и при ней приказал своим людям, чтобы графиня впредь не выезжала одна.
По сути, это был домашний арест. Несмотря на это, однажды вечером, когда мужа не было дома, она потребовала подать карету и назвала адрес, куда ехать. На отданный ею приказ лакей, поклонившись, ответил: «Их сиятельством графом сделано запрещение вам ездить одной». Карета так и простояла у крыльца до возвращения Аракчеева и до нового скандала, в конце которого граф заявил жене, что отныне она лишается права делать какиелибо траты без его ведома.
Вряд ли граф понимал, что женщине можно запретить ездить на танцы и расточать там улыбки в обмен на знаки внимания, так необходимые ее натуре, можно запретить ей вообще появляться в свете. Но лишить ее скудных копеек на личные расходы – это значит, оскорбить в ней женщину, лишить ее «женскаго» пола и смысла жизни.