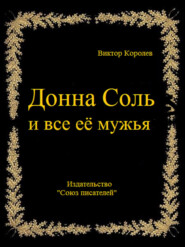По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Монологи перед зеркалом (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что лежит, что?!
– Клад старухин, что же еще! – важно протянул Юра. – Под нашим домом. Сейчас в школу сбегаю по делам и полезу. А ты не вздумай, фингал получишь!
Он ушел. И я мгновенно понял, что нет на свете такой силы, которая сможет меня удержать. Я не буду Юранду ждать! Для него кружок рисования важнее – ну и пусть его! Я первый найду клад!
…Под домом было темно и пыльно. Я с трудом протиснулся в узкий лаз, постоянно стукаясь затылком. Серега светил мне фонариком, но все равно ничего не было видно. Воняло гнилым чесноком. Руки наматывали на себя паутину, нащупывали какие-то банки, обломки кирпичей, куски истлевших тряпок. Я полз вперед, лаз все расширялся, в башке звенело.
– Давай сюда фонарик! – крикнул я Сереге. – Сам светить буду!
– Можно и я к тебе? – попросился Серега.
Но я для себя уже решил: кто найдет – того и будет. И совсем не собирался ни с кем делиться. Стоп! Дальше нету хода. Нос уткнулся в огромный камень. Поднял лицо и – не поверил своим глазам. На валуне желтел клочок бумаги.
Я орал так, что перепуганный насмерть Серега мигом выдернул меня на свет. И потом кричал вместе со мной:
– Наа-шлиии!
Словом, зря мы не поверили про сокровища. В записке так и было написано: «Клад лежит под этим камнем». Буквы были старые, с ятями, написано ровно, крупно, бумага выцвела от старости, твердая, как пергамент, тронь – и рассыплется, сломается.
– Я клад нашел! – влетел я на кухню. – Давайте лопату!
Мама с Юрандой молча переглянулись и – вдруг стали смеяться. Сначала тихонько, прыская в ладошки, а потом взахлеб, всё пытаясь поймать мою руку с запиской. Мама обняла меня, прижала, а брат, торжественно улыбаясь, развернул смятую бумажку и пошел к печке. «Сожжет!» – сжалось у меня все внутри.
Но он просто аккуратно приложил ее к старой газете, что закрывала у нас печь, когда она не топилась. От газетки был оторван солидный кусок, и записка точь-в-точь совпала с оторванным краем. Я вырвался из маминых рук и убежал в сквер.
При новом ДК был скверик, куда старшая сестра Сереги Терещенко водила своих женихов. Обычно жених, усевшись с Людмилой на скамеечку под деревьями, объявлял конкурс: кто из нас, неотступно следящих и интересующихся малолеток, быстрее добежит до противоположной ограды и обратно. Засекал время, и мы мчались, словно гнался кто, словно это вопрос жизни или смерти был.
А однажды я споткнулся и упал на старте, а когда поднялся, увидел, что Серега, Надежка и Аньча уже скрылись за поворотом, а парень вовсю зацеловывает нашу Людмилу. Назавтра жених снова пришел, но мы уже не дали ему прохода, задразнили хором. Им пришлось с Людкой пожениться и сразу уехать в Свердловск…
Однажды в марте, когда были весенние каникулы, у меня заболел живот. Врачиха помяла его и заявила, что срочно нужна операция. Мама перепугалась, но виду не подавала, и когда вела меня через этот скверик в больницу, всё рассказывала что-то смешное. Я успокоился совсем и даже не пикнул в белой комнате, когда из пальца брали кровь. Пожилая женщина с силой давила на мой палец, а вторая мыла руки в раковине и зевала, глядя в окно: «Во, старуха какая-то ревмя ревет, идет заливается», – лениво протянула она.
Я вытянул шею и увидел, что это моя мама, моя самая молодая и самая красивая на свете мама, идет по скверику, прямо по грязным лужам, сгорбившись, с перекошенным от слез лицом…
Нет, мама не могла так подшутить надо мной – это все Юранд! Ну, я ему отомщу, что-нибудь тоже придумаю, впереди еще целое лето!
…Впереди было еще целое лето. Наверное, самое счастливое лето в моей жизни. Я помирюсь с братом. Найду на огороде три старинных монетки. Съезжу в пионерский лагерь на целый месяц. Мы купим радиолу и шесть пластинок.
Потом мы всем двором будем рисовать открытки, много-много открыток. И на нашей станции впервые остановится скорый поезд Пекин-Москва, а мы встанем в шеренгу: белый верх – черный низ, сатиновые галстуки отглажены, и желтолицые китайцы с глазами-щелочками возьмут наши открытки в столицу на первый в мире фестиваль молодежи.
Потом я пойду в пятый класс и сяду с Танькой Казачинской за одной партой. Мы будем бегать на Пышму еще и в сентябре, и Юра научит меня плавать. Как-то вечером мы заберемся на крышу сарая и будем долго-долго смотреть вверх, пока не увидим, как махонькая звездочка медленно проплывет по небу, посылая нам свое «бип-бип».
А потом выпадет снег. И однажды родители разбудят меня среди ночи, и все выбегут во двор, и небо будет полыхать разноцветными полосами, а папа скажет маме: «Чтобы на Урале и северное сиянье – быть такого не может!»
Сумасшедшая бабка Ольга будет кружиться по двору, задрав кверху лицо и громко крича:
– Я люблю тебя, мой Камышлофф!
* * *
А как встанет день-деньской
Пред моею, пред тоской,
А за мною – ночь темна,
Мрачной памяти полна.
А как брызнет солнце светом,
Наплевать на всех и вся —
Я уйду один с рассветом,
Запах дома унося.
А забьется ветер в спину —
Ты веди меня, веди!
Словно груз какой-то скинул
И оставил позади…
Чай с малиновым вареньем
Настоящий мужчина должен родить сына, посадить дерево и написать книгу – так, да? Сын вырос, стал юристом, чем я очень горжусь, тополь зеленеет, книга… А что вы держите в руках? Она, надеюсь, когда-нибудь подойдет к концу. Рассказать вам про дерево?
Растет мой тополь на улице Уральских рабочих в городе Екатеринбурге. Лет тридцать назад мы встретились. Я узнал его. Теперь-то я, конечно, не узнаю. Да и он меня, видимо, тоже, хотя у деревьев век дольше, да и память тверже. Но против бензопилы даже и его память слабовата.
…Меня не любили в школе. Не любили за эгоизм, общительность, трусость, остроумие, оригинальность и слабосилие – за все сразу. Класс был интересный – до сих пор многих помню.
Я сидел за одной партой с очень аккуратной девочкой: косички на ленточках, мордочка чистенькая, фартучек всегда глаженный. Хорошая девочка, отличница. Люба Кокшарова. Иногда она смотрела на меня не так, как на всех: удивленно и, похоже, понимающе. А сзади сидел второгодник Миша Ивкин, который тыкал в меня иголкой и равнодушно смотрел, как я реву. На перемене я выкидывал из парты его чемоданчик, разбрасывал под ноги учебники с тетрадками, и он снова тыкал меня иголкой и равнодушно смотрел в окно. На мою соседку он смотрел совсем не равнодушно, не так, как на других…
В шестом классе меня избрали председателем совета пионерского отряда, и жить стало совсем ужасно. Класс вмиг забыл про рыхлого плаксу Сашу Ложкина, и я принял весь заряд мальчишеской злобы, которой совсем немало в таком возрасте.
Несколько раз меня собирались бить, но я как-то умудрялся улизнуть через окно в туалете. А это злило их еще больше. Приходил я в школу к самому звонку, уходил, когда снимали осаду ожидавшие меня «друзья».
В конце концов, дома узнали об этом. Помню, я с каким-то злорадным удовольствием вылил ушат грязи на своих одноклассников – все, что накопилось. Отец с матерью слушали внимательно, не перебивали. Когда я засыпал, свет у них горел и, наверное, долго горел в ту ночь. А утром отец пошел со мной в школу – в полной форме, со всеми регалиями, готовый к классному часу на воспитательную тему. Он говорил о дружбе, о взаимовыручке…
Меня оставили в покое. И это было еще хуже, потому что со мной не разговаривали, меня сторонились. Мной просто-напросто брезговали. Все! Люба Кокшарова иногда смотрела на меня удивленно и, похоже, понимающе, но в ее глазах появилось еще одно – жалость. Почему? Я тогда этого не понимал…
Ивкин теперь колол булавкой Ложкина. Седому, полуслепому мальчику-альбиносу все так же мазали парту чернилами. Девчонок дергали за косички. Учителям подкладывали кнопки на стул. Класс жил своей жизнью. Без меня.
Однажды на перемене ко мне подошел Коля Юрьев – здоровый и на удивление тихий двоечник.
– Хочешь, пойдем сегодня ко мне домой? – спросил он.
Я так отвык от нормального общения, что даже не спросил зачем – кивнул.
Колькина мать сразу усадила нас за стол, накормила удивительно вкусными пирожками с картошкой. Потом Колька повел меня в свою комнату. Я ахнул. На стене висела лосиная морда с огромными рогами, в углу стояла двустволка, сохла на полу палатка, какие-то похожие на сапоги валялись ботинки, бинокль, гильзы на подоконнике.
– Это все твое? Колька, неужели это все твое!?
– Мы с батей охотники, – солидно ответил Колька. – Да это что! Батя сказал, что лодку надувную четырехместную купит, если в седьмой перейду. – Он помолчал. – Я тут с физичкой переговорил, она обещала трояк вывести за год. Геометрия… фиг с ней. А вот если еще по литературе пара будет – накрылась лодка. А завтра последний урок. Давай позанимаемся, а? Летом на охоту поедем – слово даю!
До половины одиннадцатого вечера Колька кружил по половицам, старательно зазубривая: