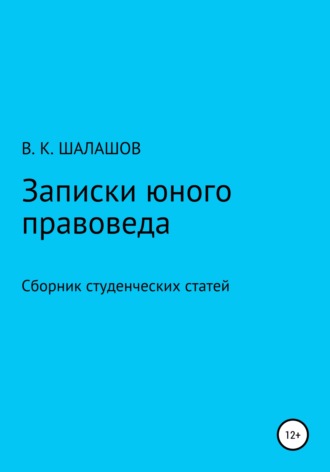
Записки юного правоведа. Сборник студенческих статей

Виктор Шалашов
Записки юного правоведа. Сборник студенческих статей
ТЕОЛОГИЯ (БОГОСЛОВИЕ) ПРАВА: ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ДОГМАТИКИ
В настоящее время на основе синтеза знаний таких юридических наук как философия права и теория государства и права и теологических (богословских) наук развивается такая дисциплина, как теология права. Представляет интерес анализ вопросов данной дисциплины, с точки зрения не противоречия христианским (православным) догматам.
Целью данной работы является попытка наметить некоторые вопросы возможного взаимодействия теологии и правоведения (такой юридико-философской науки, как философия права) для исследования современных правовых явлений. В силу тенденции к возрождению исторических традиций и духовных основ российского общества, во многом определяемых православием, необходимо проанализировать вопросы взаимодействия именно православной теологии и юридических наук.
Для начала, нужно определиться с понятием «теология». Для этого обратимся к истории. «“Принципиальное отличие уже раннехристианского значение понятия теологии от эллинского – теология не просто рассуждение поэтов, политиков или философов о богах или даже о Боге как таковое, но дискурс в рамках чёткой конфессиональности – исповедания конкретного вероучения (confessio). Три значения богословия (теологии): 1) «слово о Боге»; 2) «слово от Бога»; 3) «слово к Богу и для Бога. Три указанных значения и трактовка как «теологии» всего Св. Писания: книги Ветхого Завета – «богословие древнее», книги Нового Завета – «богословие новое», соответственно «богословы» – Пророки и Апостолы. Предметный аспект богословия как 1) учение о божественности Иисуса Христа и о «домостроительстве» спасения Им человечества в Его воплощении, 2) учение о Св. Троице, 3) учение как о Боге, так и обо всех «божественных вещах», а также обо всём, относящемся к богопочитанию”».1
Как мы видим из вышесказанного, греческое слово «теология» в русском языке передаётся термином «богословие». В переводе с древнегреческого языка «теос» – Бог и «логос» – слово.
Далее, возникают закономерные вопросы: «Как связана религия и право?», «Что связывает между собой теологию и правоведение?». Для того, чтобы продолжать исследование, необходимо чётко ответить на поставленные выше вопросы.
«“Взаимодействие права и религии составляет сложный и неоднородный массив отношений, с трудом поддающейся общей систематизации. Факторами, определяющими особенности такого взаимодействия, выступают историко-культурная традиция данного общества, социальные и нравственные основания права в логике развития правовых систем современности, многоконфессиональность и т. д.”».2
«“Право и религия являются важнейшими регуляторами общественных отношений. С юридической точки зрения право обладает приоритетом в социальном регулировании, так как в силу своей обязательности (императивности), формальной определенности и государственной защиты способен наиболее оптимально обеспечить нормальное функционирование общества, являющего собой сложный социальный организм. В то же время эффективность правового регулирования во многом зависит от его согласованного воздействия с иными не юридическими регулятивными системами, в том числе и с религией”».3
Право вторгается в наиболее значимые, жизненно важные сферы общественного регулирования, дабы упорядочить их с точки зрения справедливости. В тоже время религия, пронизывает почти всё многообразие общественных отношений. И тем не менее они иногда пересекаются друг с другом. И в этом случае, «“сложнее как в науке, так и юридической практике решается вопрос о соотношении права и религии, религиозных норм и правовых предписаний”».4
Если говорить о связи теологии и правоведения или юриспруденции, то можно процитировать слова В. В. Лаврова: «“Именно человек как единый предмет связывает отдельные разделы теологии и прежде всего христианскую антропологию с юриспруденцией. Взаимодействие с христианской теологией даёт возможность юриспруденции восполнить свои теоретические модели и практические методики путём обращения к христианскому видению человека и межчеловеческих отношений.”».5
Так, можно понять, что теология (богословие) права – понятие широкое, выходящее далеко за пределы богословских дисциплин. Значит, «“богословие права – это достаточно молодая междисциплинарная наука, возникшая на стыке философии права и библейского богословия.”».6
В теории государства и права имеет место быть теологическая теория происхождения государства и права. Теологическая теория признаёт божественный характер происхождения права и государства. Право и государство, в соответствии с данной теорией являются творением Бога с целью регулирования поведения людей.
«“Данная теория является наиболее ранней из всех теорий происхождения государства и права. Если мы посмотрим на древние государства – Египет, Шумер, Индию, Китай, Крит, Вавилон, Иудею – то увидим там отдельные элементы теологической концепции”».7
Теология права в философии права подпадает под естественно-правовую философскую концепцию. Но, «“теологические интерпретации естественного права сегодня не получают должного освещения в теоретической юриспруденции. Причины этого нередко кроются в критическом отношении к религиозным догматам и в целом к теологии со стороны науки. При этом основанием такой критики часто становится ссылка на невозможность верификации метафизических начал естественного права, онтологический пафос которых возводится к «божественному разуму».”».8
Далее, необходимо ответить на следующий вопрос: «Какое отношение религиозная догматика, в данном случае православная, имеет к праву?». Ответ на тот вопрос содержится в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви. «“Исторически религиозное и светское право происходят из одного источника и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля. Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета. Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача светского закона – не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад. Основополагающий принцип права – «не делай другому того, чего не желаешь себе».”».9
С точки зрения христианского (православного) богословия, догматом является богооткровенная вероучительная истина, которая содержит учение о Боге, которую Церковь должна определять, исповедовать и преподавать, как неизменное, неприкасаемое и обязательное для всех верующих положение православной веры.
Возникает вопрос: «Могут ли данные положения (догматы) православия, быть применимы для положений светского права?». Для того, чтобы ответить на данный вопрос, следует проанализировать возможность взаимодействия православных догматов для решения проблем уголовного права, философии права, теории права и государства.
В науке уголовного права до сих пор вопрос о смертной казни и каре, как функции уголовного права является дискуссионным. Например, Ильгам Мамедгасович Рагимов «“считает, что при соблюдении нравственных начал общество посредством наказания не стремиться к отмщению, т.е. сохраняет к лицу, совершившему преступление, гуманное, человеческое отношение и только подтверждает факт необходимой обороны от злодеяний и утверждает своё право на защиту своих членов”».10 То есть, И. М. Рагимов является безоговорочным противником кары и смертной казни, как функции уголовного права.
Для христианской (православной) догматики сама постановка вопроса о выше описываемых явлениях является неприемлемой. Если обращаться к Евангелию (Священному писанию), то можно заметить, что в христианском понимании Бог – есть любовь. Святой Апостол Иоанн Богослов указывает именно на беспрецедентный факт в истории религий, а именно на бытие Бога как Бога – любви: «“Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь”».11 Евангелист Иоанн пишет: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3:16–17). Добровольный Крест Христов показал всю силу этой любви.
Но как быть с фактами, которые содержаться в Евангелие, и указывают на Бога, который судит и наказывает? Разве момент наказания Богом нельзя назвать «Божьей карой»? Для того, чтобы ответить на данные вопросы нужно обратиться к профессиональному толкованию Священного писания. Профессионально растолковывают Священное писание теологи, в частности обратимся к профессору МДА А. И. Осипову. Алексей Ильич в книге «Бог» пишет: «“В Священном Писании и у святых отцов постоянно встречаются выражения о Боге судящем, наказывающем и милующем. Но все эти слова, по учению святых отцов, носят исключительно педагогический характер. Так, свт. Иоанн Златоуст, у которого в проповедях можно встретить сколько угодно высказываний о гневе, наказаниях и прочих «чувствах» Бога, – когда он раскрывает догматическое учение о Нем, то прямо говорит: «Когда ты слышишь слова: “ярость и гнев”, в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного; говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых”».12
Таким образом, термин «божья кара», по отношению к христианскому Богу, является абсурдным. Данный термин может использоваться только в той сфере, в которой высшей добродетелью является справедливость, а не любовь. Например, в мусульманской правовой семье это применимо. Если говорить, про российское правоведение, так как Россия относится к романо-германской правовой семье, нужно посмотреть на опыт римских юристов и сопоставить их с догматами православия.
Как говорили древние римляне: «“Право есть искусство добра и справедливости”».13 Таким хотели видеть право римские юристы, и таким оно стало, в значительной мере, под благотворным влиянием христианских идей, наполнивших право более глубоким гуманистическим, моральным содержанием.
В философии права существует юридико-аксиологический подход к пониманию права. Его возникновение связано с появлением естественно правовых воззрений. Ему присуще различие права естественного и права позитивного.
«“Согласно естественноправовой аксиологии, естественное право как воплощение объективных свойств и ценностей "настоящего" права выступает в виде должного образца, цели и критерия для оценки позитивного права и соответствующей правоустанавливающей власти (законодателя, государства в целом), для определения их естественноправовой значимости, ценности. При этом естественное право (как в доктринах юснатурализма, так и в философских интерпретациях естественного права) понимается как уже по своей природе нравственное (религиозное, моральное и т. д.) явление и исходно наделяется соответствующей абсолютной ценностью.
В понятие естественного права, таким образом, наряду с теми или иными объективными свойствами права (принципом равенства людей, их свободы и т. д.), включаются и различные моральные (религиозные, нравственные) характеристики. В результате такого смешения права и морали (религии и т. д.) естественное право предстает как симбиоз различных социальных норм, как некий ценностно-содержательный нравственно-правовой (или – морально-правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций которого выносится то или иное (как правило, негативное) ценностное суждение о позитивном праве и позитивном законодателе (государственной власти)”».14
К сожалению, сегодня в теоретической юриспруденции не получают должного освящения теологические интерпретации естественного права. Причины данного явления зачастую кроются в критическом отношении к теологии со стороны науки.
«“При этом основанием такой критики часто становится ссылка на невозможность верификации метафизических начал естественного права, онтологический пафос которых возводится к «божественному разуму»”».15
Правда, говорить об онтологическом пафосе не приходиться, если подходить к данному вопросу серьёзно. Метафизические начала естественного права верифицирует апологетика, в частности богословская апологетика. Онтологический аргумент бытия Бога исходит из идеи совершенного Существа. Данный аргумент означает, что если в нашем уме есть понятие о Существе всесовершенном, то такое Существо необходимо должно существовать, поскольку, не имея признака бытия, Оно не было бы всесовершенным. Если мыслить Бога существом всесовершенным, то он должен иметь свойство бытия.
«“Рене Декарт дополнил этот аргумент мыслью о том, что нельзя представить себе происхождение в человеке самой идеи Бога, если бы Его не было. Немецкий философ, физик присоединил к нему довод о том, что Бог должен существовать, поскольку в понятии о Нем не содержится внутренних противоречий. Многие русские богословы и философы занимались осмыслением этого аргумента. Так, например, кн. С.Н. Трубецкой, следуя мысли В.С. Соловьева, исходя из понятия Бога-Абсолюта, понимаемого как «всеединое бытие», принимал онтологический аргумент за основу в вопросе о бытии Бога”».16
Так, мы видим, что вполне возможно междисциплинарное сотрудничество между философией права и православной теологией.
Что касается теории государства и права, то данная юридическая наука, изучая теории происхождения права и государства, должна уделять внимание изучению теологической (божественной) теории. Стоит отметить, что изучение процесса происхождения государства и права имеет огромную значимость для правоведения.
«“Изучение процесса происхождения государства и права имеет не только познавательный, но и политико-практический характер, позволяет лучше понять социальную природу государства и права, их особенности, причины и условия их возникновения и развития, более чётко определить все свойственные им функции – основные направления деятельности, место и роль в жизни общества и политической системы, выработать рекомендации по совершенствованию в той или иной стране государства и права”».17
В. С. Нерсесянц, рассматривая основные концепции происхождения и сущности права и государства, уделяет внимание религиозным концепциям. В частности, учёный повествует о идеях божественного происхождения всякой власти, согласно христианской теологии. Он берёт в основу мнение видного христьианского (православного) деятеля апостола Павла.
Владик Сумбатович пишет: «“Так, уже апостол Павел утверждал: “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению… Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро… И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести” (Рим. 13, 1 – 5).”».18
Действительно, мы можем наблюдать, что изучение христианской православной теологии может дать многое юридической науке теории государства и права.
Таким образом, исходя из цели данной работы, выяснилось, что для понимания и решения проблем в обществе и государстве возможно взаимодействие теологии и правоведения. На примере вопроса уголовного права о каре, были выяснены нюансы христианской (православной) догматики.
Подводя итог, стоит сказать, что проанализированные выше вопросы показали всю сложность нюансов соприкосновения религии и юридических наук, через теологию. Всегда при соприкосновении данных сфер, необходимо быть предельно аккуратным, дабы избежать фактических ошибок, которые искажают действительность и мешают грамотному восприятию явлений, над которыми работают выше названные сферы. При заимствовании любой терминологии из сферы религии, через теологию нужно постоянно консультироваться у теологов (богословов), для того чтобы получить профессиональное толкование священных текстов и других носителей духовной информации, из которых и происходит заимствование терминологии.
Заканчивая, стоит сказать о практической значимости исследований в данном направлении. Дело в том, что разного рода преступники, например, террористы часто притворяются религиозными деятелями, хотя данные люди не обладают религиозным мировоззрением, а с религией их связывают только обряды, которые он зачастую используют в корыстных целях. Для того чтобы верифицировать корыстность намерений таких людей, целесообразно было бы создать теологическую экспертизу, заключение по которой давали бы профессиональные богословы христианства, иудаизма, буддизма, ислама и т.д. (в зависимости, под какую религию замаскировались злоумышленники).
ОБЛИГАЦИИ СУКУК КАК ВЫРАЖЕНИЕ ДУХА МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА
Актуальные процессы евразийской интеграции, образование БРИКС, ШОС (и т. д.) обусловливают необходимость изучения опыта правового регулирования наших потенциальных партнёров по континенту. Мусульманское финансовое право вызывает обоснованный интерес исследователей. Предлагается исследовать такой финансово-правовой инструмент стран мусульманского права, как облигации сукук (араб. صكوك, от «صك Сакк» – «юридический документ, акт, квитанция»), в юридико-духовном контексте. Название исламские облигации получило большую популярность среди западных финансистов и поэтому прочно укрепилось в международном финансовом сообществе.
Цель данной работы – определить правовую сущность облигаций сукук, исходя из культурных и конфессиональных особенностей мусульманского права и выяснить совместимость данного инструмента с правовой системой России.
Финансово-правовые нормы шариата не придуманы богословами. Они лишь кодифицировали те из существовавших в докоранические времена деловых процедур, которые были признаны приемлемыми моралью. Однако, в наше время далеко не все финансовые структуры Ближнего Востока оперируют с оглядкой на шариат.
Исламские облигации (сукук) появились на финансовом рынке как беспроцентные инструменты привлечения капитала в 90-х гг. ХХ века и в настоящее время являются одной из основных движущих сил исламского фондового рынка. Выпуск сукук обусловлен возможностью привлечения и вложения капитала без нарушения требований мусульманского права и рассматриваются как привлекательный инструмент капиталовложений на среднесрочный период19.
В свое время французский правовед Рене Давид пиал: «Мусульманское право, в отличие от ранее рассматривавшихся правовых систем, не является самостоятельной отраслью науки. Оно лишь одна из сторон религии ислама. Эта религия содержит, во-первых, теологию, которая устанавливает догмы и уточняет, во что мусульманин должен верить; во-вторых, шариат предписывает верующим, что они должны делать и чего не должны. Шариат означает в переводе «путь следования» и составляет то, что называют мусульманским правом»20. Исходя из выше сказанного необходимо воспользоваться методом сравнительно-правового анализа для того, чтобы грамотно оценить, как именно мусульманское право, исходя из его духа, определяет суть сукук.
Наиболее точно, по нашему мнению, понятие дух права определено в трудах проф. В. В. Сорокина: «Дух права не имеет качеств субъекта, а обнаруживается как абсолютное начало права, критерий истины, добра и красоты в правовой сфере»21.
Говоря иначе, дух права – это правовые идеалы и ценности, выраженные в принципах права, которые восприняты конкретными сообществами юристов, политиков и обывателей. Дух есть прежде всего базис, основа правовой культуры всякого общества22.
То есть, можно сказать, что духом мусульманского права являются правовые ценности и идеалы, воспринятые мусульманскими правоведами и другими членами исламского общества.
Мусульманское право представляет собой систему норм, выражающих в религиозной форме волю и интересы религиозной знати, которые изначально санкционировались и поддерживались демократическим мусульманским государством. Сложившись в своей основе еще в VII—X вв., в период становления и развития феодальных отношений в Арабском халифате, мусульманское право неизменно выступает лишь как одна из сторон ислама. Эта религия, отмечается в научных источниках, содержит, во-первых, теологию, которая устанавливает и уточняет, во что мусульманин должен верить и во что не должен верить, а во-вторых, предписания верующим, указывающие на то, что они должны делать и что не должны. В исламской религии совокупность таких предписаний называется шариатом (в пер. с араб, «путь следования») и составляет собственно то, что называют мусульманским правом23.
Правильная дорога, шариат, образует целый образ жизни. Она охватывает правильные пути служения Богу, взаимоотношений с другими людьми, выбор правильного образа жизни и даже правильный образ мыслей, и правильные верования. Понятие шариат является наиболее исчерпывающим понятием ислама. Более того, оно образует один из столпов ислама. Не надо забывать, что слово «ислам» означает «покорность», а шариат представляет собой Божественный план жизни, преисполненной покорности. Быть покорным Богу – значит следовать пути, предписанному Богом, ни больше и ни меньше. Даже мусульманский мистицизм, культивировавшийся суфиями, в конце концов, начал регулироваться правилами шариата, в которых разъясняется его эмпирический аспект, его внутренняя сущность (хакика), его тайны (acpap)24.
Сукук – облигации, которые конструируются в соответствии с требованиями мусульманского права (шариата). Сакк (единственное число от сукук) – документ, удостоверяющий право его владельца на долю в праве общей собственности на имущество25.
Напомним, что облигации (в традиционном смысле) закрепляют отношения займа между эмитентом и владельцем облигации, её владелец наделяется правом требования к эмитенту. Сукук, в российском правопонимании, по своей сути не является в полной мере облигацией. Исламская «облигация», в сущности, является инвестиционным сертификатом, который удостоверяет право её владельца на долю в праве собственности на базовый актив (пул активов), пропорциональную величине вложенных средств.
Данная особенность отражает специфические ценности, идеалы и принципы шариата. Среди них можно выделить следующие: 1) присутствие Божественной власти (это базис, основа всего остального); 2) принцип ориентированности на божественные тексты (содержащие Божественное откровение); 3) принцип терпимости к разнообразию правовых норм и готовность признать авторитет других правовых школ; 4) принцип ориентированности на дела частных лиц (главным образом на семейные отношения и контракты).
Чтобы в полной мере исследовать специфику такого финансово-правового инструмента, как сукук. Кратко обратимся к этим особенностям. Из особенностей предписаний мусульманского права можно сформулировать два основных принципа, касающихся фондового рынка. Это принцип партнерства и принцип запрета на ростовщичество.
Согласно законам шариата, существует ряд запретов при выстраивании схемы сделок, к которым относятся:
1) запрет на принятие риска (запрет на участие в игре с нулевым результатом);
2) запрет на азартные игры (ввиду того что получается прибыль в результате случайного стечения обстоятельств);
3) запрет на продажу долга за долг (например, в виде форвардных контрактов с отсрочкой платежа по ним)
26
.
В соответствии с морально-этическими принципами исламская система имеет четкую социальную направленность. Исламское право (законы шариата) разрешает получение прибыли, но налагает запрет на взимание чисто денежных процентов – риба.
Риба (ростовщичество) в мусульманском богословии – это возвращение большего количества денег ни за что, при обмене денег на деньги (при обмене одинаковых видов денежных единиц). Это процент, указанный в договоре, когда взявший возвращает через определенный срок больше того, что взял. Запрет установлен в Суре 2 Корана; 275–276 айат27.
Следовательно, в мусульманской правовой традиции спекулятивное поведение и принятие избыточных рисков не допускается. Так, к основным моделям исламского бизнеса можно отнести партнерство (мудараба, мушарака, вакала), купля-продажа с отсрочкой платежа, аренда (таваррук) и исламские облигации (сукук).
Основные отличия сукук от традиционных облигаций следующие. Если облигация – это долговое обязательство эмитента перед инвестором, то сукук представляет собой долю в активе, лежащем в основе сделки, или долю в проекте. Их также часто называют имущественными сертификатами. Сукук должны быть обеспечены активами: материальными или нематериальными28.
Риски, которые связаны с правами собственности на базовый актив, при выпуске сукук должны относитьсяне к эмитенту, а к держателю сукук. Таким образом, продажа сертификатов сукук как на первичном, так и вторичном рынках является продажей доли собственности в активе или проекте, тогда как продажа облигации будет являться продажей долга или инструмента, который основан на рибе.
Структура данных ценных бумаг по уровню передачи рисков инвесторам представлена asset backed сукук (обеспеченными активами) и asset-based сукук (основанными на активах), необеспеченными. Одним из элементов обеспеченных сукук, общих для сукук и для секьюритизации, является SPV (от англ. special purpose vehicle). В исламском банкинге SPV – специальная проектная компания, выпускающая сертификаты сукук, отвечающая по ним перед держателями, а также распределяющая финансовые потоки между ними и инвестирующая полученные от держателей сертификатов средства29.

