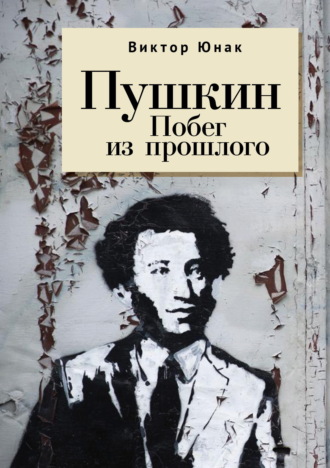
Пушкин. Побег из прошлого
Сего 1825 года, Декабря 12 дня,
село Тригорское, что в Опочецком уезде.
Статская советница
Прасковья Осипова».
Пушкин приложил свою печать, подделал тетушкину подпись, еще раз перечитал написанное.
– Ничего, тетушка не обидится, а коли и узнает – не рассердится, поймет.
Одно дело сделано. Осталось написать письмо Рылееву, да и отдыхать.
«Милый мой Рылеев!
Прошу внимательно отнестись к словам подателя сего письма. Это человек весьма начитанный и посвященный во все тайны Союза спасения и Союза благоденствия. Он тебе сам все расскажет. Только прошу тебя снова и снова, будь внимателен к его словам и сделайте так, как он скажет. И не воспринимайте его, ты и остальные, умалишенным. Если получится, то у нас появляется шанс избавить Россию от самодержавия.
Прощай, мой милый, что ты пишешь?»
Однако, утром, проснувшись и позавтракав, Романов не согласился с тем, чтобы Пушкин отправился вместе с ним в Петербург:
– Пойми, Саша, я не могу на сто процентов гарантировать успех своей миссии. А ежели так, то не могу подвергать тебя, светило русской литературы, риску. Слишком жесток Николай, чтобы надеяться на его благосклонность. Коли уж он не пожалел князей с графьями, не думаю, что он пожалеет тебя. Ты же сам в одном из вариантов своей эпиграммы напишешь о нем: «С ног до головы – детина, с головы до ног – скотина». А вот если наше мероприятие увенчается успехом, буду рад встретиться с тобой в освобожденной от самодержавия столице.
Пушкин нервно вышагивал по кабинету, сломал несколько гусиных перьев, лежавших в беспорядке на его конторке. Но, в конечном итоге, согласился, однако спросил:
– Сына с собой возьмешь?
– Разумеется! Куда же я без него.
– Я дам вам на дорогу четыреста рублей, этого должно хватить. Кибитку также дам свою. Коней почаще меняйте, решительней требуй. И не поддавайся на всякие уловки смотрителя. Меня однажды станционный смотритель облапошил – двести рублей почти переплатил. На ночлег остановитесь в Луге, это почти на середине пути.
Своя кибитка позволяла ускорить поездку – дабы не перекладывать всякий раз скарб из одного места в другое. А вот лошадей лучше использовать казенных, почтовых, дабы не загонять своих. Вот за лошадей и взымались прогонные деньги – за каждую лошадь и версту. Пробег лошадью одной версты стоил в зависимости от тракта от восьми до десяти копеек.
8
Почти двое суток на перекладных добирался Романов до столицы. То ли дело цивилизация – сел на самолет, часа полтора – и ты из Москвы в Петербурге. Да и на поезде, на «Сапсане» немногим дольше. И это шестьсот верст. А в девятнадцатом веке четыреста верст не всегда и в двое суток преодолеешь.
Русские дороги! Одна из бед России по меткому выражению одного из острословов пера. И, кажется, от нее никогда не избавиться. Из-за плохих дорог часто ломались экипажи, особенно заграничные, выписанные, не рассчитанные на большие расстояния и плохие дороги. Даже летом путешествовать оказывалось нелегко, не говоря уже о весенней и осенней распутице.
Спасает лишь то, что Россия – страна северная. И когда наступала зима, а дороги покрывало крепким снежным настом, укрывавшим собою все выбоины и колдобины, все неровности и шероховатости, тогда-то и наступала настоящая вольница для возниц, настоящее приволье для путешествующих. Вот именно езда по зимникам и дала возможность Гоголю, устами одного из своих героев, восхищенно воскликнуть: «И какой же русский не любит быстрой езды!» На тройке, с колокольчиками! А порою и под томную песню ямщика. Одно удовольствие! Да и для тела полезно – быстрая езда придавала энергию и отвагу для организма. Звон колокольчиков на больших дорогах помогал не сбиться с пути, предупреждал, когда надо было разминуться со встречной почтой.
Впрочем, несмотря на состояние дорог, ездили относительно быстро благодаря необыкновенному искусству ямщиков. Скорость передвижения на дорогах России поражала и пугала иностранцев. Существовали правила, по скольку верст в час ямщики могли возить «обыкновенных проезжающих». Так, в осеннее время полагалось везти восемь верст в час, в летнее – десять, а в зимнее, по санному пути – двенадцать. Обычная скорость при гоньбе па почтовых днем и ночью составляла около ста верст в сутки. Но, договариваясь с ямщиками, путешественники проезжали по зимней дороге в сутки и по двести верст.
На всех трактах для перемены лошадей и отдыха были устроены почтовые станции. Каждая из них имела определенное количество лошадей и экипажей в зависимости от разряда, к какому она принадлежала. Станции первого разряда строились в губернских городах, второго – в уездных. Небольшие населенные пункты имели станции третьего и четвертого разрядов с небольшим количеством лошадей.
С конца XVIII века все почтовые станции в России строились по типовым проектам и в Центральной России располагались примерно на расстоянии от 18 до 25 верст. Любую почтовую станцию было видно издалека – обязательный белый фасад и неизбежный римский портик с деревянным выбеленным фронтоном и оштукатуренными колоннами. Да и вообще, классическая колонна в прежние века была опознавательным знаком любого общественного здания в России. Это как клеймо на теле раба.
Проехав этот путь и доставив почту или людей до следующей станции, ямщик с лошадьми возвращался обратно. А все главные дороги были размечены верстами. Через каждую версту ставился столб с цифрами. На одной стороне столба обозначались версты пройденные, на другой – оставшийся путь до конечного пункта.
До Пскова по знаменитой Порховской дороге, построенной всего чуть более чем за полвека до описываемых событий вдоль левого берега реки Шелони, наши герои мчались, что называется, быстрее ветра. С билетом проблем не было, шлагбаумы на заставах открывались быстро, станционные смотрители меняли лошадей практически сразу – благо, никаких важных персон, фельдъегерей и срочной почты в ту пору в направлении Петербурга не было. И все это время стоически вел себя десятилетний Василий, периодически то засыпавший, уткнувшись в отцовский бок (выехали-то ведь довольно рано), то выглядывавший в окошко, когда кибитка подпрыгивала на каком-нибудь ухабе, либо ямщик слишком резко завернул лошадей. Мальчик помнил бабушкину присказку: назвался груздем, полезай в кузов. Ведь сам же захотел нырнуть в прошлое вместе с отцом, и нечего жаловаться на усталость или неудобства. В иное время года, конечно, дорога была бы привлекательней, а сейчас, зимой, куда ни кинешь взгляд – снежные заносы, снежные поля, черный, обнаженный лес.
А вот под Псковом, на почтовой станции второго разряда Кресты со стойлами на тридцать шесть лошадей произошла небольшая заминка. Кстати, Кресты – одно из образцовых в коммерческом смысле поселений – там предприимчивый купец немец Шитт построил рядом со станцией двухэтажную гостиницу и имел от нее порядочный доход. В ней он частенько устраивал танцы, и сюда повеселиться ездили даже псковичи из города.
Почтовая станция располагалась на северном въезде в город, а главным фасадом повернута в сторону Киевского тракта. Это было одноэтажное, прямоугольное в плане здание. Со стороны дворового фасада к нему примыкало по оси главного входа меньшее по объему прямоугольное же в плане помещение, соединенное с главным коротким, но хорошо освещенным переходом. Стены здания кирпичные, перекрытие – плоское, кровли четырехскатные. Главный фасад станции имел семь осей. Его оконные проемы имеют стрельчатые завершения, а противоположного, дворового – лучковые. Наличники в виде плоских тяг присутствуют только на окнах главного фасада. Центральная часть главного фасада подчеркнута ризалитом со ступенчатым парапетом над ним. Центральный проем главного фасада ведет в большой зал, вытянутый по всей длине фасада. Тремя дверными проемами главный зал сообщается с двумя другими основного здания, связанными между собой. Из перехода в малый объем с единственным помещением находился выход во двор. Слева от станционного дома располагались кухня, ретирада для ямщиков, комната станционному смотрителю; справа – погреб, амбар, навес для экипажей. Замыкала двор длинная конюшня. Посреди двора был устроен колодец.
Внутри же дома потолок и стены были расписаны в итальянском стиле, мебель обита кожей, стулья с соломенными сиденьями были довольно опрятны. Везде расставлены большие диваны, могущие заменить кровати, которыми, впрочем, лучше не пользоваться из-за нашествия клопов. Почтовые станции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за счет правительства.
Когда Романовы, расплатившись с ямщиком (обязательные шесть копеек на водку), вошли в здание почтовой станции, неожиданно стали свидетелями необычной картины. Некий молодой офицер в чине поручика на повышенных тонах разговаривал с немолодым, лысоватым с седым загривком и такими же седыми, но пышными усами, невысокого роста сухощавым мужчиной в зеленом кафтане.
– Ведь ты врешь, каналья, что у тебя нет лошадей. Сам видел – конюшня полна.
– Простите, ваше благородие, но мне приказано беречь лошадей для казенных нужд, – негромко и даже как будто виновато отговаривался станционный смотритель. – А у вас даже и денег нету, чтобы оплатить подорожную.
– Я же тебе сказал, каналья, как только прибуду к месту службы, тотчас же пришлю к тебе оплату сполна.
– Мне запрещено его превосходительством выдавать казенных лошадей в долг.
Поручик уже был явно на взводе, упрямство смотрителя его подбешивало. К тому же, он был не совсем трезв. Он не выдержал: сначала дал ему одну пощечину, затем еще и еще, пока, наконец, в зал не вошел еще один офицер, штабс-капитан и не схватил поручика подмышки.
– Мишель, успокойся. Поди в гостиницу.
Он его вытолкал на улицу, а сам тут же подошел к стоявшему с красным лицом и дрожавшему всем телом смотрителю.
– Ты прости его, братец! Проигрался он в карты вчистую, вот и нервничает.
– Я подам жалобу на поручика его превосходительству и потребую взыскать с него за бесчестие мое.
– Да брось ты это дело, голубчик, не давай ему огласки.
– Помилуйте, ваше благородие, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят.
Романовы молча с удивлением наблюдали за всей этой картиной. Особенно удивительно это все было Васе. Он периодически с расширенными зрачками смотрел то на смотрителя с офицерами, то на отца.
Тем временем штабс-капитан достал из кармана несколько купюр и протянул их станционному смотрителю.
– Вот, возьми, братец! Здесь двадцать пять рублей ассигнациями. Надеюсь, этого хватит, чтобы загладить сию неприятность.
Смотритель брать деньги решился не сразу, опасаясь свидетелей, коими в данном случае оказались отец и сын Романовы. Но штабс-капитану надоело ждать, он сунул деньги в руки смотрителю и тут же направился к выходу.
В свете подобной неприятности, случившейся со станционным смотрителем, уместно привести выдержки из инструкции от 30 сентября 1825 года, оберегавшие фельдъегерей, ямщиков и смотрителей от обид и произвола: «Путешествующим строго запрещается чинить смотрителю притеснения и оскорбления или почтарям побои; за все такие поступки взыскано будет по 100 рублей в пользу почтовой экономической суммы». Там же был и пункт по охране труда почтовых служащих: «Чтобы смотрителю лучше дышалось, во всех почтовых домах устроить в окошках форточки для впущения воздуха».
Краска начала постепенно сходить с лица служивого, дрожь в теле также унялась. И он с явным неудовольствием посмотрел на Михаила.
– Чего изволите?
– Нам бы лошадей поменять, господин смотритель.
– Нету у меня лишних лошадей.
– Ну как же! Вы же сами господину поручику говорили, что есть лошади, просто вы в долг не хотели отпускать.
Смотритель что-то невнятно пробормотал себе под нос, убирая деньги в небольшую шкатулку, что находилась в ящике конторки, стоявшей близ печки. Он был явно в расстроенных чувствах. Еще бы: получить за раз столько пощечин, к тому же, незаслуженных. А это мужичье еще и свидетелями оказались! Михаил боялся, что смотритель теперь, из вредности, будет тормозить с заменой лошадей, и уже думал, как бы его заставить этого не делать. А впрочем, о чем думать? Всем ведь известно, какой на Руси самый любимый способ ускорять любое дело: взятка. Ну, или мягче – ускоритель действия.
У станционного смотрителя было много обязанностей. Он всегда должен был носить форменную одежду – зеленый кафтан, отвечал за чистоту станции, опрятность лошадей и повозок, должен был следить, чтобы на территории станции никто не шумел и не кричал. А главное, был обязан «все правильные требования всякого проезжающего немедленно исполнять с кротостью и учтивостью, не позволяя себе ни малейшей грубости».
– Предъявите подорожную! – довольно грубо произнес станционный смотритель.
Романов расстегнул зипун и полез в карман за подорожным билетом, написанным рукою самого Пушкина. Подавая документ смотрителю, Михаил одновременно достал и, ничего не говоря, положил на конторку 80 копеек. Смотритель оценил такую щедрость, тут же внес подорожную в свою книгу и крикнул одного из ямщиков:
– Влас! Готовь лошадей!
– Спасибо, господин хороший. А вот чайку бы нам еще с мальчонкой, на дорожку-то. Согреться.
– Сейчас устрою! – уже совершенно спокойным тоном произнес станционный смотритель.
Дальше до самой Луги никаких происшествий с Романовыми не случилось. В Лугу же приехали около полуночи. Как и советовал Пушкин, здесь решили переночевать. Тем более, явно начиналась снежная буря, ветер с силой выхватывал с поверхности снежные частицы и свирепо бросал их в зазевавшихся людишек.
Луга – маленький уездный городок с тысячью жителей в 130 верстах от Петербурга, специально построенный по указанию императрицы Екатерины Второй для размещения почтовой станции на трассе из Петербурга в Москву.
Пару лет назад услугами почтовой станции в Луге воспользовался и Александр Пушкин, подзадержавшийся здесь из-за того, что смотритель в первую очередь обслужил чиновника, стоявшего по чину выше титулярного советника Пушкина в составленной еще Петром «Табели о рангах». По этому поводу у поэта родился даже экспромт-эпиграмма:
«Есть в России город ЛугаПетербургского округа.Хуже не было б сегоГородишки на примете,Если б не было на светеНоворжева моего».Пока Романовы пили чай, выяснилось, что лошади здесь есть только для одной упряжки. А на станции еще до них находились постояльцы, ожидающие своей очереди. Первое, о чем подумал Михаил – как бы здесь не застрять на несколько дней. Тогда вся его задумка не будет стоить и выеденного яйца. Но что же делать?
Станционный смотритель выделил им маленькую комнату с низким потолком, где едва умещались кровать, канапе и один табурет. При этом в комнате было довольно прохладно из-за того, что в окнах были щели. Михаил отбросил одеяло, проверил простыню. Как он и ожидал, она была не первой свежести и чистоты. Спасибо, хотя бы, что не влажная.
– Придется спать в одежде! – Михаил посмотрел на сына.
– Почему, пап?
– Ну ты же видишь, что из окон дует. Поди сюда, подставь ладонь
Вася подошел к окну, подержал ладонь у оконной рамы, кивнул головой и посмотрел на отца.
Чтобы успокоить сына, который уже готов был закапризничать, Михаил улыбнулся, потрепал его по волосам и подмигнул.
– Ничего, сынок! Всего одна ночь. А завтра мы уже будем в Питере. Но там от меня ни на шаг, понял? – Василий кивнул. – И чтобы слушаться. Что я скажу, то и делай.
– Я все понял, пап.
– Ну, вот и хорошо! Ты ложись, а я на пару минут отлучусь.
– Ты куда?
– Да кое с кем переговорить нужно.
– А у тебя разве здесь есть знакомые?
– А разве переговариваться можно только со знакомыми?
Вася помотал головой.
– Ну, вот! Давай ложись. Я ненадолго.
Михаил вышел в зал, но смотрителя нигде не было. Да и вообще зал пустовал: видимо, все уже устроились на ночлег. Тогда он вышел на улицу. И в этот момент заметил, как конюх снял с лошадей сбрую и заводил их в конюшню. Стоп! Значит, прибыл новый ямщик. Михаил повертел головой, стараясь обнаружить прибывшего, но двор был пуст. Неужели уже успел куда-то отойти. Но тут из уборной, стоявшей на задворках, вышел мужик, смачно высморкавшись, прижав переносицу двумя пальцами, большим и указательным, вытер руку о зипун и, слегка покряхтывая, направился к дому. Романов сообразил, что это и есть новоприбывший ямщик, и тут же решительно направился ему наперерез. Мужик был крепкий, плечистый, с огромными ладонями, но и он слегка оторопел, когда увидел, что кто-то преградил ему путь. А Михаил вдруг впал в ступор: как обратиться к мужику? С господами все ясно. Он стал шевелить извилинами, вспоминая все свои познания по этому поводу.
Ямщик не выдержал первый, посмотрел с угрозой на Романова, И, на всякий случай сжав кулаки, грубовато спросил:
– Тебе чего, человече?
Романов даже выдохнул с облегчением. Снял шапку и слегка поклонился.
– Договориться хочу.
– Об чем?
– Твои лошади конюх только что увел в конюшню?
– Ну? – ямщик все еще недоверчиво смотрел на неожиданного собеседника.
– Я тут с сыном на ночь остановился, а мне бы в утрех в Питер надобно, иначе барин шкуру сдерет, ежели не успею за день.
– Хех! А и сдерет! Мне-то чего?
Романов вытянул руку, разжал ладонь, в которую заранее положил пятьдесят копеек. Впрочем, в кромешной тьме ямщик, разумеется, ничего не заметил. Тогда Романов сунул ладонь под кулак ямщика.
– Вот, возьми! Хотелось бы завтра раненько с тобой и уехать. Возьмешь?
Ямщик, наконец, разжал кулаки, взял деньги, приблизил ладонь к лицу, едва ли не на ощупь проверяя, сколько копеек ему вручил незнакомец.
– Пятьдесят копеек, – уточнил Романов. – Договорились?
Он протянул руку ямщику, но тот пожимать ее не торопился.
– Возок чей будет?
– У меня своя кибитка. Барин снарядил.
– Ладно! – ямщик, наконец, пожал руку. – Со смотрителем уже договорился?
– Договорюсь!
– Ну, смотри! А то деньги назад не верну.
Ямщик развернулся и пошел в дом. Романов выдохнул с огромным облегчением. Осталось дело за малым – договориться со станционным смотрителем. Ну, у Михаила уже есть опыт в этом деле. Вернувшись в здание, он тут же направился в комнату станционного смотрителя.
Когда Романов вернулся в гостиничный номер, с удивлением обнаружил, что Василий еще не спит, ворочается с боку на бок. Увидев отца, тихонько позвал.
– Па-ап!
– Ты чего не спишь, Вася? Завтра рано утром уедем и целый день в дороге.
– Мне страшно!
– Отчего же страшно? В этой комнате больше никого нет. Да, это даже не трехзвездная гостиница, но мы и не в двадцать первом веке, и не в столице.
– Кто-то воет.
– Как воет? – удивился отец.
– Страшно. Сам послушай.
Михаил присел на край кровати Василия и стал прислушиваться. И правда, услышал какое-то завывание, но тут же понял, в чем дело:
– Это ветер, сынок. Ты же сам видел, что в окне щели, вот ветер там и гуляет, и воет. Спи!
Он наклонился, поцеловал сына в щеку, посидел возле него несколько минут, держа его ладошку в своей. Вася успокоился и спустя несколько минут уже засопел.
Михаил подошел к канапе, потрогал его, сел, чтобы понять, не развалится ли. Затем снял валенки, подложил под голову шапку и лег. И вскоре впал в состояние, похожее на сон, но внезапно из этого состояния Михаила вырвал жуткий грохот и звон. Это в комнату ворвался ветер, распахнувший прогнившие створки окна и разбивший стекло. Разумеется, спросонья подумалось, что кто-то умышленно выбил окно и готовился напасть на него с сыном. Михаил вскочил, приготовившись отбить атаку кого бы то ни было, для чего схватился за табурет. Впрочем, он быстро убедился, что никто, кроме ветра, нападать на них не собирался. Однако же, нужно было что-то делать с окном, иначе они с сыном до утра околеют. Как ни странно, но этот шум и звон даже не разбудил Василия – он настолько устал за день, что теперь спал, как убитый. И тогда Михаил стащил с Василия одеяло (накрывшийся до самого подбородка своим теплым зипуном, мальчик чувствовал себя довольно комфортно), Михаил, как смог, приладил одеяло на окно. По крайней мере, ветер в комнате перестал чувствовать себя вольготно.
Зато из-за этого всего в соседней комнате проснулся и захныкал маленький ребенок и этот скулеж, сопровождаемый заунывными причитаниями то ли матери, то ли няньки, продолжался едва ли не до самого утра. Тем не менее, Михаил снова лег и попытался заснуть, мучимый то увлекательными сновидениями, то предстоящей страшной явью.
Романовы добрались до Петербурга только к вечеру 13-го числа. Ямщик доставил отца с сыном прямо к дому 72 на набережной Мойки у синего моста, рядом с Мариинским дворцом и очень близко к Сенатской площади (всего одна-две минуты пешком быстрым шагом), где весь последний год жил Кондратий Рылеев с женой и дочерью. Он занимал почти весь первый этаж здания.
Дом принадлежал Российско-Американской компании, где поэт работал правителем канцелярии. Романов вспомнил, что читал об этом доме. Двухэтажное здание в тринадцать окон по фасаду с мезонином построено в конце XVIII века и первым его владельцем был екатерининский вельможа Кашталинский. Однако в 1798 году дом приобрел президент коммерц-коллегии, а затем канцлер Воронцов, после смерти которого в 1805 году дом и купила Российско-Американская компания, созданная в конце XVIII века «для промыслов на американских островах морских и земных зверей и торговли ими».
В 1824–1825 годах дом превратился в штаб-квартиру Северного общества, здесь же останавливались и приезжавшие для объединительных встреч члены Южного общества, в частности, его руководитель полковник Павел Пестель.
Впрочем, Пестель Рылееву не понравился: неплохой психолог, Рылеев сразу заметил в полковнике хитрого честолюбца. К тому же, поэт считал неприличным дело свободы Отечества и водворения порядка начинать беспорядками и кровопролитием, на чем как раз и настаивал Пестель.
Романов встретил Рылеева в парадном, сразу же представился и вручил ему письмо от Пушкина. Кондратий Федорович тут же сломал сургуч, вскрыл конверт и пробежал глазами по строчкам письма, узнав своеобразный почерк Пушкина. Пока Рылеев читал, Романов его рассматривал.
Он был среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом. С первого взгляда вселял в человека как бы предчувствие того обаяния помноженного на редкую силу его характера, которому непроизвольно, но неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения удивительные глаза его горели и точно искрились. Становилось даже жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. В полутьме парадного не слишком была заметна бледность лица практически всего пару дней назад вставшего на ноги заговорщика, а вот его тяжелое дыхание было весьма ощутимо.
9
Утром 13 декабря случилась большая неприятность – стало известно о письме и встрече члена штаба заговорщиков поручика Ростовцева с Николаем Павловичем. Более того, сам Ростовцев «благородно» вручил черновое письмо Рылееву. Рылеев тут же оповестил своих соратников об этом и, стало быть, о том, что великий князь предупрежден о возможном мятеже. Рылеев показал письмо оказавшемуся в тот момент рядом Владимиру Штейнгелю. У того от удивления округлились глаза: как так можно! Ведь ему доверяли абсолютно все члены Северного общества.
– Что вы теперь думаете, неужели действовать? – взволнованно спросил Штейнгель.
– Действовать непременно! – ответил Рылеев. – Ростовцев всего, как видишь, не открыл, а мы сильны, и отлагать не должно. Акция Ростовцева только нам пойдет на пользу.
Бодрость и решимость Рылеева несколько поколебала неуверенность Штейнгеля в успехе переворота.
Все утро у Рылеева ушло на «ростовцевский сюжет». Он был у Трубецкого. Потом поехал к Николаю Бестужеву, старшему из братьев. У него как раз матушка из деревни приехала, а, поскольку они были дружны, то Рылеев и решил заехать, чтобы поздравить Прасковью Михайловну с приездом из деревни, а заодно и переговорить с Николаем, сообщив ему о Ростовцеве.
При этом Рылеев оповестил очень ограниченный круг людей, только самых доверенных лиц.
– Во всяком случае, акция Ростовцева должна лишь укрепить нас в намерении выступить в момент присяги, – убеждал Рылеев братьев Бестужевых.
– Отобедаете с нами, Кондратий Фёдорович? – спросила мать.
– Благодарствуйте, милая Прасковья Михайловна! Не откажусь.
– Кстати, Кондратий, – едва выйдя из-за стола, произнес Николай Бестужев, – Моллер мне сообщил, 14-го его 2-й батальон финляндцев будет нести караул во дворце и в присутственных местах вокруг дворца, в том числе возле Сената. Таким образом, в случае согласия Моллера содействовать нам резиденция Николая и всей августейшей фамилии и Сенат будут под нашим контролем без всякого штурма.

