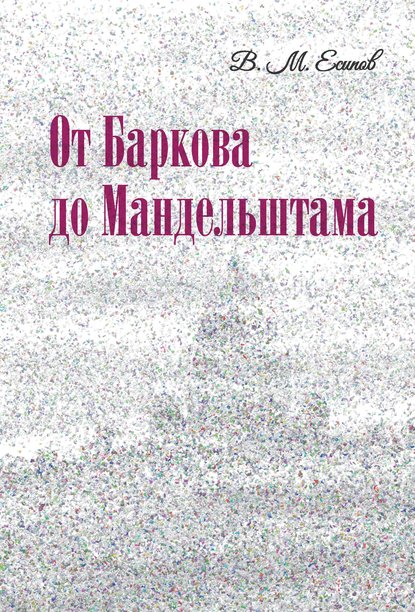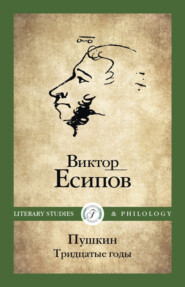По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От Баркова до Мандельштама
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как же комментирует это лицейский товарищ Пушкина:
«Все это, к сожалению, сущная правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы»[16 - Там же.].
Вот такие товарищеские чувства испытывал Корф к Пушкину!
Отметим при этом, что Пельц мимоходом приписал Пушкину философско-галантерейную эпиграмму, вовсе ему не принадлежащую. А что же Корф, которому Гаевский, как авторитету в вопросах пушкинской биографии, отдал на предварительное прочтение рукопись своей статьи о лицее? Подтверждая, что все сообщенное Пельцем «сущная правда», Корф тем самым признал и принадлежность Пушкину приведенной Пельцем эпиграммы.
И вот таким-то «авторитетным» показаниям, по мнению М. А. Цявловского, «нечего противопоставить». Он пишет:
«Сообщаемое Гаевским о “Тени Баркова” не вызвало со стороны Корфа ни слова. Нельзя допустить, чтобы он оставил без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи, что занимает в печатном тексте статьи более двух страниц. Молчание Корфа – конечно, знак согласия с тем, что сообщили его товарищи Гаевскому»[17 - Цявловский М. А. Комментарии. С. 162.].
Какие «товарищи», что именно «сообщили» они Гаевскому, – это, как мы уже отметили раньше, никому не известно, никаких пояснений Гаевский, к сожалению, не оставил. А «знак согласия» в молчании Корфа действительно прочитывается, но по другой причине, нежели предполагал М. А. Цявловский, – по причине, которую мы уже указали раньше: неприязнь к Пушкину. На самом деле, если бы Корф что-нибудь знал о «Тени Баркова», он не преминул бы этим воспользоваться, продемонстрировать это, чтобы еще раз злорадно уязвить память поэта. А быть может, так оно и было на самом деле – именно Корф и поведал Гаевскому какие-то свои предположения или подозрения об авторстве Пушкина в отношении «Тени Баркова», столь же достоверные, как и одобренное им печатное утверждение уже упомянутого нами Пельца о принадлежности Пушкину галантерейной эпиграммы на императора.
В таком случае Корф, разумеется, также оставил бы «без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи».
Таким образом, мы в состоянии противопоставить немало аргументов целенаправленным умозаключениям М. А. Цявловского, не подкрепленным никакими фактическими данными.
Так или иначе, М. А. Цявловский обошел молчанием известную проблему, на которой мы вынуждены сейчас кратко остановиться. Она заключается в том, что под именем Пушкина распространялось в списках множество текстов, по большей части стихотворных, ему не принадлежащих. При этом имели место весьма курьезные случаи. Так, например, петербургская «Северная звезда» в 1829 году опубликовала фрагмент «Негодования» Вяземского в виде отдельного стихотворения под названием «Элегия» с указанием на авторство Пушкина[18 - Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 474.]. Текст этот и впоследствии воспроизводился как пушкинский (в частности, П. А. Ефремовым) вплоть до выхода в 1878 году Полного собрания сочинений Вяземского. Как сообщил сотрудник рукописного отдела Пушкинского дома А. В. Дубровский в докладе на Международной Пушкинской конференции 2002 года (Петербург – Москва), рукопись этих стихов была в свое время получена П. В. Анненковым от В. М. Тютчева как безусловно пушкинский текст. Охотно приписывались Пушкину и стихи эротического характера, например, «Первая ночь брака», о чем вскользь упомянул сам М. А. Цявловский.
Не случайно в последнем томе Полного собрания сочинений Пушкина приведен обширный список произведений, «ошибочно приписывавшихся Пушкину в наиболее авторитетных изданиях», занимающий несколько страниц! Здесь находятся и «Первая ночь брака», и упомянутая нами ранее эпиграмма «На Александра I» («Хотел издать Ликурговы законы…»), приписанная Пушкину Пельцем и Корфом, и многие другие произведения, не имеющие никакого отношения к Пушкину.
Все это, конечно, хорошо было известно М. А. Цявловскому, и все же он не пожалел усилий, чтобы постараться приписать Пушкину еще один сомнительный текст, не располагая для этого серьезными аргументами.
Не выглядит объективной и его раздраженная реакция на колебания П. А. Ефремова, первоначально отнесшегося к публикации Гаевского весьма положительно. Впоследствии Ефремов, видимо, в результате длительных размышлений, сопоставлений и консультаций, вовсе изменил первоначальное мнение и отказался признать «Тень Баркова» пушкинским произведением.
Примечательно, что окончательное решение Ефремова оказало, по его свидетельству, влияние и на Гаевского, который, по его словам, также перестал настаивать на своем «предположении» об авторстве Пушкина. Вот как описал это Ефремов:
«…в Москве мне попалась целая тетрадь подобных произведений одного москвича, состоявшая из переделок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта “Тень Баркова” (Громобой), “Съезжинская узница” (Шильонский узник) и пр. Эту тетрадь я отдал В. П. Гаевскому, а он сам уж встретил меня отказом от своего прежнего предположения. Кто же, однако, наговорил ему таких подробностей, которые были приведены при печатании им отрывка “Тени Баркова”?»[19 - Цявловский М. А. Комментарии. С. 164.]
Как видно из приведенного текста, Ефремов задавался по отношению к Гаевскому тем же недоуменным вопросом, что и мы: «Кто же, однако, наговорил ему такие подробности о “Тени Баркова”?»
Ответить на этот вопрос Ефремова М. А. Цявловскому нечем – он ограничивается язвительным выпадом в адрес неудобного для него свидетеля: «Утверждение это приходится оставить на совести Ефремова»[20 - Там же. С. 165–166.].
Пытаясь подвергнуть сомнению важное сообщение Ефремова, М. А. Цявловский приводит собственноручную запись Гаевского на экземпляре рукописи: «По удостоверению П. А. Ефремова, “Тень Баркова” не Пушкина», – толкуя ее как подтверждение неизменности первоначальной позиции Гаевского, как его несогласие с Ефремовым.
Вот уж поистине странная логика. Ведь трезвый взгляд на фразу Гаевского убеждает, что запись сделана Гаевским для памяти или для потомков, и это само по себе (при, безусловно, уважительной тональности фразы) позволяет предположить: мнение Ефремова имело вес для Гаевского. А коли так, почему же он не мог изменить, не без влияния Ефремова, собственное мнение о балладе?
Заслуживает внимания и предположение Ефремова о «московском происхождении» баллады, ведь некоторые детали в ее первой строфе действительно могут быть связаны с Москвою:
«Мещанская» – известная улица в Москве, примыкающая к району Марьиной рощи, – вспомним название сентиментальной повести Жуковского, ведь именно Жуковский издевательски пародируется в балладе;
«Московский модный молодец» – скорее всего приказчик, потому что именно так (молодец) нередко называли в Москве приказчиков[21 - Елистратов В. С. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997. С. 296.];
«Подьячий из Сената» – тоже может быть указанием на Москву, потому что с 1763 года два департамента Сената располагались в Москве (четыре – в Петербурге)[22 - БСЭ. М., 1976. Т. 23. С. 248.].
Кроме того, слово «подьячий», утратившее к началу ХIХ века свое прошлое значение («приказной служитель, писец в судах» – см. словарь Даля) приводится в словаре «Язык старой Москвы» как старомосковское:
«Подьячий. Мелкий чиновник, взяточник, чинуша, ничтожная личность»[23 - Елистратов В. С. Указ. соч. С. 387.].
Безусловно, московского толка и выражение «ломает в стих» в строфе 4 баллады. Сравним со словарем «Язык старой Москвы»:
«Ломать: ломать счастье. Вероятно, продолжать играть, несмотря на проигрыш, в надежде переломить судьбу (при игре в карты)»[24 - Там же. С. 268.].
Видимо, в балладе слово «ломать» (по аналогии с приведенным его значением, относящимся к игре в карты), хотя оно и выглядит довольно неуклюже, обозначает попытки незадачливого стихотворца (Хвостова) вставить в стих слово, туда не помещающееся.
Обратим также внимание на следующие стихи 11-й строфы:
Пером владеет, как е**ой,
Певцов он всех славнее;
В трактирах, в кабаках герой,
На бирже всех сильнее.
Не совсем ясный смысл последнего стиха (ведь биржа – это «учреждение для заключения крупных торговых и финансовых сделок»[25 - Словарь языка Пушкина.: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 100.]) проясняется также с помощью словаря старомосковского говора, где к слову «биржа» дается следующее разъяснение:
«… биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редеет толпа на тычке, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу <…>, может почесться истинной биржей. Подрядчики и служащие транспортных контор, извозчики и вообще все занимающиеся извозом чернеют темной тучей на углу против Гостиного двора <…> Смешанная куча промышленного люда толчется день-деньской против извозчичьей биржи, там и сям с деловыми людьми мешается особый класс промышленников, зовомых здесь жуликами, разные рядские ширялы, нищие обоих полов и разных видов – смешение весьма разнообразное и вполне демократическое»[26 - Елистратов В. С. Указ. соч. С. 56.].
Здесь-то, по-видимому, по замыслу автора баллады, и должен был исполнять свои похабные куплеты, восхваляющие Баркова, неведомо как сделавшийся их сочинителем поп-расстрига.
На это указывает и упоминание биржи в одном ряду с трактирами и кабаками, потому что в том же словаре языка старой Москвы отмечается их связь между собою:
«Мудрено ли после этого, что большинство торговых людей предпочитает Бирже трактиры и почти все дела и переговоры происходят в них. Трактир – истинная биржа для Москвы…»[27 - Там же. С. 56–57.]
Все отмеченные детали позволяют сделать вывод, что у Ефремова, вопреки категоричным возражениям Цявловского, основания для предположения о московском происхождении баллады имелись – как и для сомнений по поводу того, мог ли юный Пушкин, если бы он действительно являлся автором баллады, знать такие подробности о Москве, «вывезенный из нее почти ребенком». Но все это, конечно, не главное.
Куда важнее, что с версией об авторстве Пушкина плохо согласуются некоторые известные нам факты. Так, комментарии к «Монаху» в уже упомянутом нами издании лицейской лирики Пушкина содержат следующие сведения об этом произведении:
«Первое упоминание о “Монахе” принадлежит В. П. Гаевскому, указавшему, что в “первые два года лицейской жизни” Пушкин “сочинил, в подражание Баркову, поэму «Монах», которую уничтожил, по совету одного из своих товарищей <…>”. Гаевский опирался на свидетельство А. М. Горчакова, в 1870–1880-е гг. трижды рассказывавшего, что уговорил Пушкина уничтожить лицейское стихотворение “довольно скабрезного свойства” <…>; в другом месте он называл его “дурной поэмой”<…> и “Монахом”<…>. Автограф “Монаха” однако сохранился, причем в бумагах самого же Горчакова, где он и был обнаружен в 1928 г. Тетради с текстом поэмы потрепаны; по-видимому, они ходили между лицеистами»[28 - Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813–1817. С. 417.].
Необходимо осмыслить эти сведения и сделать необходимые выводы.
Во-первых, Горчаков, один из ближайших товарищей Пушкина, считал «Монаха» стихотворением «довольно скабрезного свойства», что по понятиям того времени было суждением достаточно справедливым.
Проиллюстрируем это следующим отрывком:
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.
Иль как Филон за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя вдруг удержав…
Она должна, стыдясь остановиться.
Но поздно все, Филон, ее догнав,
«Все это, к сожалению, сущная правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы»[16 - Там же.].
Вот такие товарищеские чувства испытывал Корф к Пушкину!
Отметим при этом, что Пельц мимоходом приписал Пушкину философско-галантерейную эпиграмму, вовсе ему не принадлежащую. А что же Корф, которому Гаевский, как авторитету в вопросах пушкинской биографии, отдал на предварительное прочтение рукопись своей статьи о лицее? Подтверждая, что все сообщенное Пельцем «сущная правда», Корф тем самым признал и принадлежность Пушкину приведенной Пельцем эпиграммы.
И вот таким-то «авторитетным» показаниям, по мнению М. А. Цявловского, «нечего противопоставить». Он пишет:
«Сообщаемое Гаевским о “Тени Баркова” не вызвало со стороны Корфа ни слова. Нельзя допустить, чтобы он оставил без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи, что занимает в печатном тексте статьи более двух страниц. Молчание Корфа – конечно, знак согласия с тем, что сообщили его товарищи Гаевскому»[17 - Цявловский М. А. Комментарии. С. 162.].
Какие «товарищи», что именно «сообщили» они Гаевскому, – это, как мы уже отметили раньше, никому не известно, никаких пояснений Гаевский, к сожалению, не оставил. А «знак согласия» в молчании Корфа действительно прочитывается, но по другой причине, нежели предполагал М. А. Цявловский, – по причине, которую мы уже указали раньше: неприязнь к Пушкину. На самом деле, если бы Корф что-нибудь знал о «Тени Баркова», он не преминул бы этим воспользоваться, продемонстрировать это, чтобы еще раз злорадно уязвить память поэта. А быть может, так оно и было на самом деле – именно Корф и поведал Гаевскому какие-то свои предположения или подозрения об авторстве Пушкина в отношении «Тени Баркова», столь же достоверные, как и одобренное им печатное утверждение уже упомянутого нами Пельца о принадлежности Пушкину галантерейной эпиграммы на императора.
В таком случае Корф, разумеется, также оставил бы «без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи».
Таким образом, мы в состоянии противопоставить немало аргументов целенаправленным умозаключениям М. А. Цявловского, не подкрепленным никакими фактическими данными.
Так или иначе, М. А. Цявловский обошел молчанием известную проблему, на которой мы вынуждены сейчас кратко остановиться. Она заключается в том, что под именем Пушкина распространялось в списках множество текстов, по большей части стихотворных, ему не принадлежащих. При этом имели место весьма курьезные случаи. Так, например, петербургская «Северная звезда» в 1829 году опубликовала фрагмент «Негодования» Вяземского в виде отдельного стихотворения под названием «Элегия» с указанием на авторство Пушкина[18 - Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 474.]. Текст этот и впоследствии воспроизводился как пушкинский (в частности, П. А. Ефремовым) вплоть до выхода в 1878 году Полного собрания сочинений Вяземского. Как сообщил сотрудник рукописного отдела Пушкинского дома А. В. Дубровский в докладе на Международной Пушкинской конференции 2002 года (Петербург – Москва), рукопись этих стихов была в свое время получена П. В. Анненковым от В. М. Тютчева как безусловно пушкинский текст. Охотно приписывались Пушкину и стихи эротического характера, например, «Первая ночь брака», о чем вскользь упомянул сам М. А. Цявловский.
Не случайно в последнем томе Полного собрания сочинений Пушкина приведен обширный список произведений, «ошибочно приписывавшихся Пушкину в наиболее авторитетных изданиях», занимающий несколько страниц! Здесь находятся и «Первая ночь брака», и упомянутая нами ранее эпиграмма «На Александра I» («Хотел издать Ликурговы законы…»), приписанная Пушкину Пельцем и Корфом, и многие другие произведения, не имеющие никакого отношения к Пушкину.
Все это, конечно, хорошо было известно М. А. Цявловскому, и все же он не пожалел усилий, чтобы постараться приписать Пушкину еще один сомнительный текст, не располагая для этого серьезными аргументами.
Не выглядит объективной и его раздраженная реакция на колебания П. А. Ефремова, первоначально отнесшегося к публикации Гаевского весьма положительно. Впоследствии Ефремов, видимо, в результате длительных размышлений, сопоставлений и консультаций, вовсе изменил первоначальное мнение и отказался признать «Тень Баркова» пушкинским произведением.
Примечательно, что окончательное решение Ефремова оказало, по его свидетельству, влияние и на Гаевского, который, по его словам, также перестал настаивать на своем «предположении» об авторстве Пушкина. Вот как описал это Ефремов:
«…в Москве мне попалась целая тетрадь подобных произведений одного москвича, состоявшая из переделок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта “Тень Баркова” (Громобой), “Съезжинская узница” (Шильонский узник) и пр. Эту тетрадь я отдал В. П. Гаевскому, а он сам уж встретил меня отказом от своего прежнего предположения. Кто же, однако, наговорил ему таких подробностей, которые были приведены при печатании им отрывка “Тени Баркова”?»[19 - Цявловский М. А. Комментарии. С. 164.]
Как видно из приведенного текста, Ефремов задавался по отношению к Гаевскому тем же недоуменным вопросом, что и мы: «Кто же, однако, наговорил ему такие подробности о “Тени Баркова”?»
Ответить на этот вопрос Ефремова М. А. Цявловскому нечем – он ограничивается язвительным выпадом в адрес неудобного для него свидетеля: «Утверждение это приходится оставить на совести Ефремова»[20 - Там же. С. 165–166.].
Пытаясь подвергнуть сомнению важное сообщение Ефремова, М. А. Цявловский приводит собственноручную запись Гаевского на экземпляре рукописи: «По удостоверению П. А. Ефремова, “Тень Баркова” не Пушкина», – толкуя ее как подтверждение неизменности первоначальной позиции Гаевского, как его несогласие с Ефремовым.
Вот уж поистине странная логика. Ведь трезвый взгляд на фразу Гаевского убеждает, что запись сделана Гаевским для памяти или для потомков, и это само по себе (при, безусловно, уважительной тональности фразы) позволяет предположить: мнение Ефремова имело вес для Гаевского. А коли так, почему же он не мог изменить, не без влияния Ефремова, собственное мнение о балладе?
Заслуживает внимания и предположение Ефремова о «московском происхождении» баллады, ведь некоторые детали в ее первой строфе действительно могут быть связаны с Москвою:
«Мещанская» – известная улица в Москве, примыкающая к району Марьиной рощи, – вспомним название сентиментальной повести Жуковского, ведь именно Жуковский издевательски пародируется в балладе;
«Московский модный молодец» – скорее всего приказчик, потому что именно так (молодец) нередко называли в Москве приказчиков[21 - Елистратов В. С. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997. С. 296.];
«Подьячий из Сената» – тоже может быть указанием на Москву, потому что с 1763 года два департамента Сената располагались в Москве (четыре – в Петербурге)[22 - БСЭ. М., 1976. Т. 23. С. 248.].
Кроме того, слово «подьячий», утратившее к началу ХIХ века свое прошлое значение («приказной служитель, писец в судах» – см. словарь Даля) приводится в словаре «Язык старой Москвы» как старомосковское:
«Подьячий. Мелкий чиновник, взяточник, чинуша, ничтожная личность»[23 - Елистратов В. С. Указ. соч. С. 387.].
Безусловно, московского толка и выражение «ломает в стих» в строфе 4 баллады. Сравним со словарем «Язык старой Москвы»:
«Ломать: ломать счастье. Вероятно, продолжать играть, несмотря на проигрыш, в надежде переломить судьбу (при игре в карты)»[24 - Там же. С. 268.].
Видимо, в балладе слово «ломать» (по аналогии с приведенным его значением, относящимся к игре в карты), хотя оно и выглядит довольно неуклюже, обозначает попытки незадачливого стихотворца (Хвостова) вставить в стих слово, туда не помещающееся.
Обратим также внимание на следующие стихи 11-й строфы:
Пером владеет, как е**ой,
Певцов он всех славнее;
В трактирах, в кабаках герой,
На бирже всех сильнее.
Не совсем ясный смысл последнего стиха (ведь биржа – это «учреждение для заключения крупных торговых и финансовых сделок»[25 - Словарь языка Пушкина.: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 100.]) проясняется также с помощью словаря старомосковского говора, где к слову «биржа» дается следующее разъяснение:
«… биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редеет толпа на тычке, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу <…>, может почесться истинной биржей. Подрядчики и служащие транспортных контор, извозчики и вообще все занимающиеся извозом чернеют темной тучей на углу против Гостиного двора <…> Смешанная куча промышленного люда толчется день-деньской против извозчичьей биржи, там и сям с деловыми людьми мешается особый класс промышленников, зовомых здесь жуликами, разные рядские ширялы, нищие обоих полов и разных видов – смешение весьма разнообразное и вполне демократическое»[26 - Елистратов В. С. Указ. соч. С. 56.].
Здесь-то, по-видимому, по замыслу автора баллады, и должен был исполнять свои похабные куплеты, восхваляющие Баркова, неведомо как сделавшийся их сочинителем поп-расстрига.
На это указывает и упоминание биржи в одном ряду с трактирами и кабаками, потому что в том же словаре языка старой Москвы отмечается их связь между собою:
«Мудрено ли после этого, что большинство торговых людей предпочитает Бирже трактиры и почти все дела и переговоры происходят в них. Трактир – истинная биржа для Москвы…»[27 - Там же. С. 56–57.]
Все отмеченные детали позволяют сделать вывод, что у Ефремова, вопреки категоричным возражениям Цявловского, основания для предположения о московском происхождении баллады имелись – как и для сомнений по поводу того, мог ли юный Пушкин, если бы он действительно являлся автором баллады, знать такие подробности о Москве, «вывезенный из нее почти ребенком». Но все это, конечно, не главное.
Куда важнее, что с версией об авторстве Пушкина плохо согласуются некоторые известные нам факты. Так, комментарии к «Монаху» в уже упомянутом нами издании лицейской лирики Пушкина содержат следующие сведения об этом произведении:
«Первое упоминание о “Монахе” принадлежит В. П. Гаевскому, указавшему, что в “первые два года лицейской жизни” Пушкин “сочинил, в подражание Баркову, поэму «Монах», которую уничтожил, по совету одного из своих товарищей <…>”. Гаевский опирался на свидетельство А. М. Горчакова, в 1870–1880-е гг. трижды рассказывавшего, что уговорил Пушкина уничтожить лицейское стихотворение “довольно скабрезного свойства” <…>; в другом месте он называл его “дурной поэмой”<…> и “Монахом”<…>. Автограф “Монаха” однако сохранился, причем в бумагах самого же Горчакова, где он и был обнаружен в 1928 г. Тетради с текстом поэмы потрепаны; по-видимому, они ходили между лицеистами»[28 - Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813–1817. С. 417.].
Необходимо осмыслить эти сведения и сделать необходимые выводы.
Во-первых, Горчаков, один из ближайших товарищей Пушкина, считал «Монаха» стихотворением «довольно скабрезного свойства», что по понятиям того времени было суждением достаточно справедливым.
Проиллюстрируем это следующим отрывком:
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.
Иль как Филон за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя вдруг удержав…
Она должна, стыдясь остановиться.
Но поздно все, Филон, ее догнав,